Там - [7]
Все эти люди далеки от героев в обычном смысле. Да и о людях мало что можно сказать. Это человеческие схемы, линии, поступки, которые, нелогичные и запутанные, пересекаясь в сложном пространстве поэмы, образуют сети узоров. Если прочесть поэму в целом, создается удивительное впечатление, потому что экзотические ассоциации вплетаются и расплетаются с обычными делами, банальными или интересными миражами и сновидениями, с поступками добрыми, масштабными или в высшей степени странными. Поражает четкость композиции, главное непонимание поэмы в обычном логическом смысле, поразительная приподнятость настроения, которая часто возникает при чтении древних эпических произведений или сказаний скальдов. Но если в последних случаях речь идет о лицах хорошо известных исторически или, по крайней мере, об оставшихся в народной памяти героях и прославленных воинах, то неведомые «принцы изгнания» Сент-Джон Перса никак не могут вызвать подобных реминисценций. Мы сталкиваемся с поэмой совершенно современной: с людьми, которых делает героями возвышенная инкантация поэта; с причудливыми описаниями небывалых пейзажей; с тривиальными изображениями городских панорам; с метафорами, далекими от объяснения; с действиями, непонятными без подробных комментариев. Да и комментарии мало помогут. Пафос, акцентированный иногда до восторженности, остается вне конкретных и деловых операций современных специалистов.
Сент-Джон Перс, подобно другим современным поэтам, часто использует слова как имена. Что это значит? Имя это форма слова без омонимов, синонимов и метонимий. Имя избегает межсловных связей. Форма слова рождает единое понятие, единый вербальный объект. Например, «прибрежная коса», «полевая коса», «женская коса» — не омонимы, но вещи, требующие для своего определения сугубо иных характеристик. Если проследить происхождение формы того или иного слова (прибрежная коса, камень, роза), то можно заблудиться и не вернуться к привычному понятию. Таким образом создается некий второй язык, употребление которого до крайности усложняет поэзию отсутствием привычных референций. Стихотворение испанского поэта Хорхе Гильена «Имена»:
В полутьме, в сумраке вещи пребывают застывшими под патиной привычности. Только восходящее солнце начинает видеть имена, то есть натуральную жизнь вещей. Розу можно сорвать, сломать, выбросить в лужу, присоединить к букету мимоз, рукой человеческой вторгнуться в ее жизнь: как слово она не изменится, как слово она претерпит массу трансформаций, оставаясь розой. Правда, к ней прибавится горсть эпитетов, иногда совершенно неясных. Если ее кинуть под асфальтовый каток, эпитеты найти затруднительно, она будет просто называться «роза под асфальтовым катком». Даже в такой ситуации слово останется за ней. Но имя.
Если она своей волей соединится с другими цветами или своей волей увянет, она сохранит имя и называть ее «букетом» или «увядшей розой» излишне. Если, по нашему мнению, она увянет слишком быстро, то воспоминание о ее превращении следует назвать «торопливостью». Чтобы она вновь получила имя «роза», надо сфотографировать ее, то есть создать «воспоминание», или изваять из камня или нарисовать. Тогда сохранится ее нетленная форма, ее имя.
Аналогичную ситуацию переживает любовь. Она вспыхивает в «расцвет мгновения»,
когда время пропадает или увядает. «Расцвет мгновения» — тоже имя, которое проступает при восходе солнца. Обычное разделение времени на «До» и «После» исчезает, «Тотчас» устраняет «После» и устанавливает свой ослепительный режим. Это форма времени рождает любовь и пока она царит, времени не существует. Судя по стихотворению Хорхе Гильена, солнце оживляет формы слов и вещей, чего нельзя сказать про газовый и электрический свет, чья мертвящая атмосфера набрасывает патину однозначности на объекты окружающего мира. Если солнце заходит — остается воспоминание о солнце: «Ресницы сомкнулись. Горизонту конец. Может быть, нет? Но остаются имена.» Пока остается воспоминание о солнце на вещах или в чьей-нибудь светлой голове, остаются имена — жизнь вещей в их первозданности. Вещи не умирают в смысле тотального уничтожения, но трансформируются под влиянием лунного света или собственного взаимодействия. Этот процесс жесток и мучителен. Ф. Гарсиа Лорка «Смерть».

Что такое миф? Какое место он занимает в жизни современного человека? Нужны ли нам мифы? Книга Евгения Головина «Мифомания» не только дает новые, неожиданные ответы на эти вопросы, но и загадывает новые загадки. Древняя Греция и Возрождение, алхимия и магия, каббала и масонство — мифы разных эпох и традиций как в калейдоскопе сменяют друг друга: от Античности мы вдруг переходим к «современной мифологии», от фольклора и средневековых трактатов — к западноевропейской поэзии XIX века.Исследуя природу мифа, пересказывая его по-своему, автор приходит к убеждению, что миф — это самое сокровенное, что есть в человеке, это основа человеческой личности, свидетельство ее уникальности.

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Эта книга написана в тенденции свободного обращения с темой. В нашу эпоху тотальной специализации человек сугубо профессионален. Все меньше тем подлежит вольному толкованию. Это грустно, весьма грустно. Данный текст рассчитан на дилетантов, бездельников, вообще на людей легкомысленных, которые все же нашли время, чтобы научиться читать.http://fb2.traumlibrary.net.

Творчество Василия Шумова рассмотрено с позиций современного искусства, философии и мистики. Это на сегодня единственная в своем роде книга, которая создаст правильное представление и подход к восприятию работ Василия Шумова и группы Центр. Книга написана в более сложном ключе чем традиционные материалы на темы рок-музыки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
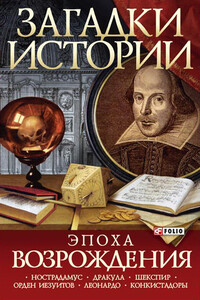
Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.