Талисман Авиценны - [3]
ПЕРВАЯ БАЛЛАДА БЕГА
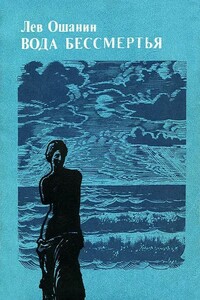
Роман в балладах рассказывает о знаменитом полководце древности — Александре Македонском. Автор попытался нарисовать образ этого полководца в сложности и противоречивости его устремлений и раздумий, в совокупности причин его величия и краха.

Избранные произведения из сборников:Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск, Москва: Полифакт, 1995.Песнь Любви. Стихи. Лирика русских поэтов. Москва, Изд-во ЦК ВЛКСМ "Молодая Гвардия", 1967.Лев Ошанин. Издалека - долго... Лирика, баллады, песни. Москва: Современник, 1977.Советская поэзия. В 2-х томах. Библиотека всемирной литературы. Серия третья. Редакторы А.Краковская, Ю.Розенблюм. Москва: Художественная литература, 1977.Лев Ошанин. Стихи и песни. Россия - Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Я хотел бы в этом очерке рассказать не о крупных событиях и не о роли сталинизма, а о некоторых совсем, казалось бы, мелких событиях, протекающих поначалу в небольшом грузинском городе Гори еще в конце прошлого века. Речь пойдет о детстве и отрочестве Сталина и о его родителях, в первую очередь о матери Иосифа - Екатерине Джугашвили. Мы знаем, что именно события раннего детства и отношения с родителями определяют во многом становление личности каждого человека.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.