Такое короткое лето - [12]
Я знал немало редакторов, в том числе таких, которые испытывали садистскую радость, отыскав в тексте неудачное сравнение или корявую фразу. Играя иезуитской ухмылкой, редактор начинал зло и беспощадно высмеивать тебя, а потом часами учить «русскому литературному языку», обводя жирным карандашом непонравившуюся ему фразу. Собственные литературные опыты таких людей редко появляются на страницах книг или журналов, главная их цель не научить чему-нибудь, а показать твое невежество и свою образованность.
Василий Федорович ничему не учил и образованность не показывал. Она была в его манерах, способе общения, речи.
— А не кажется ли вам, что здесь следовало бы найти другое сравнение, более тонкое и изящное? — спрашивал он, разбирая текст рукописи. — Это немного грубоватое, оно упрощает образ. А тут нужна психологическая точность.
Я почти всегда соглашался с ним, потому что его аргументы были не отразимы. Мне кажется, таких редакторов уже не осталось. Я многому научился у него.
Я вышел на издательство, в котором работал Василий Федорович, совершенно случайно. Сейчас их пруд пруди, особенно в столице, многие не отыщешь даже в телефонном справочнике. Однажды мне в руки попало очередное сникерсное издание. Красивая обложка, ламинированный переплет, а внутри белиберда, которую забываешь сразу же, как только переворачиваешь страницу. Я как раз закончил работу над рукописью и подумал: а что, если послать ее в это издательство? У меня и в мыслях не было, что ее могут напечатать. Мне хотелось узнать реакцию столицы, которая уже давно перестала задавать моду в литературе, на вещь, где отстаиваются традиционные, а не навязшие сегодня в зубах западные ценности. Через месяц раздался телефонный звонок. На другом конце провода был Василий Федорович. Представившись, он спросил:
— Не могли бы вы прилететь в Москву? Нам бы хотелось обговорить условия контракта.
Я никогда не считал себя профессиональным писателем. Профессиональными писателями были Пушкин, Достоевский, Толстой, Иван Шмелев, Шолохов. Даже генерал Петр Краснов, несмотря на свою громкую военную карьеру, был профессиональным писателем. Один его роман «От двуглавого орла к красному знамени» стоит литературного труда всей жизни многих нынешних, да и не только нынешних писателей вместе взятых. Для меня литературное занятие — любимое увлечение. Оно никогда не давало средств для существования, поэтому я не отношусь к нему, как к профессии. Но увидеть напечатанными свою повесть или даже рассказ всегда приятно.
Через два дня я уже сидел в кабинете Василия Федоровича и он угощал меня своим знаменитым кофе.
— Вы знаете, Ваня, — он обратился ко мне по-отечески ласково, — я с удовольствием прочел вашу рукопись. Детективы в глянцевых обложках уже приелись читателю, ему надо что-то из реальной жизни. Поэтому мы решили издать вашу повесть. Но мне кажется, кое над чем вам еще надо поработать. Вы с этим справитесь.
Василий Федорович начал делать конкретные замечания. Их было так много, что я не мог понять: что же ему понравилось в моей повести? Он, очевидно, уловил растерянность на моем лице, поэтому сказал:
— Это вам только кажется, что работы очень много. Подумайте. Какие-то из замечаний примете, какие-то нет. Вещь, в общем-то, готовая. Я просто хочу, чтобы она была еще лучше. Контракт на издание мы можем заключить сегодня.
Я забрал рукопись и поехал к Гене. Он лежал на диване, закрытый до подбородка клетчатым пледом, с приступом остеохондроза.
— Помоги мне подняться, — попросил он, тяжело опираясь на локоть и пытаясь оторвать от дивана массивное тело. Я подал ему руку и потянул на себя. Он свесил ноги на пол, сел.
— Чайку не выпьешь? — спросил он, глядя на меня исподлобья.
— Честно говоря, не хочется, — сказал я. Мне показалось, что чай не для серьезного разговора.
— Тогда сходи на кухню и достань из холодильника водку. Там же в банке грузди и где-то рядом ветчина. Рюмки в серванте.
Гена тяжело нагнулся и подтянул к дивану стоявший недалеко журнальный столик. Я принес то, что он просил. Мы налили по рюмке, выпили. Гена поддел вилкой груздь, похрустел им и попросил:
— Налей еще, кажется, спина проходить стала.
Мы выпили снова.
— Василия Федоровича я знаю давно, — сказал Гена, покручивая за тонкую ножку рюмку. — У него точный вкус. С дерьмом он возиться не будет. Если сказал, что надо делать, значит делай. На кухне у меня хороший стол. Он с утра до вечера свободен. Машинка в книжном шкафу.
Гена, кряхтя, поднялся с дивана, подошел к шкафу, встав на четвереньки, открыл нижнюю дверку и вытащил пишущую машинку. Достал оттуда же пачку чистой бумаги и сказал:
— Вся русская литература ХХ века создавалась на кухне. Действуй!
Через неделю я пришел к Василию Федоровичу с выправленной рукописью. Он положил ее на стол, подправил листы с боков и погладил сверху ладонью. На плитке тем временем закипела вода в турке, Василий Федорович приготовил кофе и, когда он был разлит по чашкам, спросил:
— Как вы там живете в Сибири? Я из Москвы не вылажу, а по столице судить о жизни в стране нельзя. — Он тяжело вздохнул и отхлебнул кофе.

В повести «Леший» показаны романтика и героизм геологов, открывавших нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири, и рассказано о дальнейшей судьбе этих открытий. Книгу с полным правом можно назвать документальным свидетельством последних десятилетий нашей эпохи.
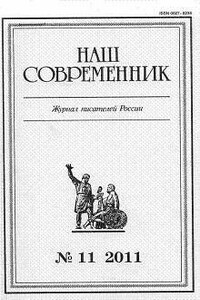
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Остросюжетная мелодраматичная повесть о первой любви и неизменной хрупкости этого чувства при столкновении с суровой реальностью.

По поручению Ленина чрезвычайный комиссар советского правительства Яковлев ищет пути доставки императора Николая II и его семьи из Тобольска в Москву, понимая, что уральские чекисты не пропустят его через Екатеринбург. Это история трагических, последних дней российского самодержца. Роман основан на подлинных исторических документах, с психологической точностью воссоздавая портреты главных героев.
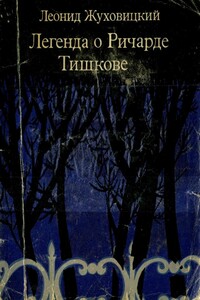
Герои произведений, входящих в книгу, — художники, строители, молодые рабочие, студенты. Это очень разные люди, но показаны они в те моменты, когда решают важнейший для себя вопрос о творческом содержании собственной жизни.Этот вопрос решает молодой рабочий — герой повести «Легенда о Ричарде Тишкове», у которого вдруг открылся музыкальный талант и который не сразу понял, что талант несет с собой не только радость, но и большую ответственность.Рассказы, входящие в сборник, посвящены врачам, геологам архитекторам, студентам, но одно объединяет их — все они о молодежи.

Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары— умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода…

Советские геологи помогают Китаю разведать полезные ископаемые в Тибете. Случайно узнают об авиакатастрофе и связанном с ней некоем артефакте. После долгих поисков обнаружено послание внеземной цивилизации. Особенно поражает невероятное для 50-х годов описание мобильного телефона со скайпом.Журнал "Дон" 1957 г., № 3, 69-93.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.Собрание сочинений в десяти томах. В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим…», «В горах» и «Золотая ночь».

«Кто-то долго скребся в дверь.Андрей несколько раз отрывался от чтения и прислушивался.Иногда ему казалось, что он слышит, как трогают скобу…Наконец дверь медленно открылась, и в комнату проскользнул тип в рваной телогрейке. От него несло тройным одеколоном и застоялым перегаром.Андрей быстро захлопнул книгу и отвернулся к стенке…».

