Таита (Тайна института) - [46]
— Приходи в воскресенье на прием, — оживленно шептала она, пользуясь минутным невниманием Августы Христиановны.
— Всенепременно. Даю мое суворовское слово честного солдата, и ты поклонись за это от меня кому-нибудь.
— Знаю, знаю, Золотой Рыбке, — хохотала Ника.
— Ну, понятно, ей. Помилуй, Бог, угадала. Она славная такая.
— Баян, как ты смеешь разговаривать с проходящими мужчинами? — словно из-под земли выросла перед нею Скифка.
— Это совсем не мужчины, фрейлейн, а мой брат Володя, — оправдывалась девушка, в то время, как карие глазки все еще горели радостью встречи с любимым братом.
— Это неприлично. А это кто? Зачем он так смотрит на тебя, Чернова? — накинулась Августа Христиановна на черненькую Алеко, имевшую несчастье привлечь на себя взоры высокого статного кадета, с насмешливо задорными глазами и подвижным лицом.
— Я-то чем виновата, скажите, пожалуйста. У него надо спросить, — сердито ответила Шура.
— Зачем вы смотрите так… так нагло на воспитанниц? — накинулась, не медля ни минуты, на юношу Скифка.
— А разве нельзя? — насмешливо прищурившись, осведомился он.
— Нельзя. Это дерзость. Вы не имеете права так смотреть.
— А вы бы им на головы шляпные картонки надели, тогда уж, наверное, никто бы не смотрел, — ответил кадет.
— Пф-фырк! — не выдержали и разразились смехом воспитанницы.
— Ха-ха-ха! — вторили им кадеты, быстро удаляясь по тротуару.
— Я так не оставлю. Я буду жаловаться. Я знаю, какого вы корпуса, и с вашим директором лично знакома, — волновалась Августа Христиановна.
— На доброе здоровье, — донесся уже издали насмешливый голос.
— Вы будете наказаны, и Баян, и Чернова, и все.
— Вот тебе раз! Мы-то чем же виноваты? — послышались протестующие голоса.
— Тихо! — сердито воскликнула немка.
— Ну уж? Это не штиль, а целая буря.
— Тер-Дуярова, что ты там ворчишь?
— Погода говорю, хорошая: солнце греет.
— Будет вам погода и солнце, когда вернемся домой.
— Сегодня Прощеное воскресенье, сегодня нельзя сердиться, — грустным тоном говорит Капочка, не глядя на фрейлейн Брунс.
— Капа, Капа! — шепчет ей ее соседка по прогулке Баян, когда все понемногу успокаивается и входит в норму. — Как же мы будем с исповедью-то? Ведь про Тайну батюшке непременно сказать надо.
— Разумеется. Грех и ересь скрывать что бы то ни было от отца духовного.
— Так что, мы должны сказать?
— Конечно, конечно. Ведь мы лгали, укрывали от начальства.
— Знаешь, Капочка, собственно говоря, ведь…
— Тише, тише, фрейлейн Брунс тут.
Скифка, действительно, уже подле. И как она подкралась незаметно к юным собеседницам? Идет рядом и смотрит подозрительными глазами на обеих девушек. Она давно уже прислушивается и приглядывается ко всему, что происходит в классе. Многое дает обильную пищу ее подозрительности. Она подозревает, догадывается, что вверенные ее попечению воспитанницы скрывают от нее нечто весьма важное и «преступное». Часто ухо ее улавливает странное шушуканье, повторяемое слово Тайна, Таита. Какие-то записочки то и дело циркулируют по классу и исчезают мгновенно при одном ее приближении. Одну из таких записочек у нее на глазах бесследно уничтожила Тольская, эта отвратительная «отпетая» девчонка, когда она, Августа Христиановна, потребовала ей показать. Кроме того, что-нибудь да значат все эти исчезновения из класса то одной, то другой воспитанницы. Ничего еще, если это какая-нибудь простая детская шалость, шутка. Ну а если что-либо более серьезное, если это — Боже упаси! — какой-нибудь заговор? А кто же поручится, что это не так? От этих девушек всего можно ожидать. Нет, нет, надо удвоить старания, раскрыть все эти шашни и довести обо всем до сведения начальства. Так оставить нельзя.
И, решив таким образом дело, Скифка возвращается в институт. На душе у нее буря. А воспитанницы как нарочно находятся нынче в каком-то приподнятом настроении.
— Mesdames, мне необходимо поговорить с классом, — шепчет Баян, оборачиваясь спиной к Скифке и делая значительные глаза в ту минуту, когда вернувшиеся с прогулки институтки занимают свои обычные места.
И вот девушка придумывает способ «выкурить» из класса Августу Христиановну. Она подходит к кафедре и с самым невинным выражением на ангельском личике начинает, обращаясь к той:
— Фрейлейн Брунс, вы давно в институте служите?
— О давно, очень давно, — ничего не подозревая, отвечает наставница.
— Но ведь вы были совсем молодая, когда поступили сюда?
— О, да, молодая, конечно.
— И очень хорошенькая? Очень, очень хорошенькая, должно быть, фрейлейн, — не то вопросительно, и в то же время утвердительно продолжает плутовка.
— То есть?
Лицо немки вспыхивает и делается багровым. Кто хорошо знает Августу Христиановну, тот мог понять, что лучшего плана действий Ника Баян выбрать не могла. Никогда не существовавшая красота — один из «пунктиков» фрейлейн. Она часто любит распространяться о том, какой у нее был ослепительный цвет лица, какие волосы и зубы, когда она была молодою. И после таких разговоров обыкновенно фрейлейн Брунс впадала в меланхолическую задумчивость и шла в свою комнату, где долго сидела, разбирая пачки писем, какие-то выцветшие лоскутки бумаги, какие-то засохшие, перевязанные тоненькими ленточками, цветы. Или просиживала чуть ли не целый час перед зеркалом, разглядывая свое отраженное в стекле багровое лицо.

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.
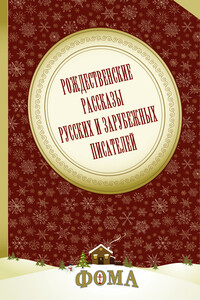
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.
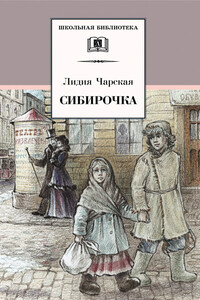
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.
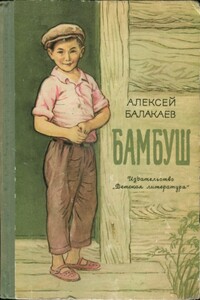
Калмыцкий поэт и писатель Алексей Балакаев родился на берегу Волги, в Шикиртя. Сотрудничал в краевой газете «Красноярский рабочий» с 1948 года. Книжка стихов А. Балакаева «Первая песня» вышла в 1959 году на калмыцком языке. Затем в Элисте выходят новые сборники: «Степная искра», «Счастье, подаренное Лениным», повести «Красавица Саглар» и «Продолжение жизни». Алексей Балакаев — автор первого калмыцкого романа «Звезда над Элистой». Много писатель работает и как переводчик. Он перевел на калмыцкий язык «Как закалялась сталь» Н.

«Я всегда хотел убить небо, с раннего детства. Когда мне исполнилось девять – попробовал: тогда-то я и познакомился с добродушным полицейским Реймоном и попал в „Фонтаны“. Здесь пришлось всем объяснять, что зовут меня Кабачок и никак иначе, пришлось учиться и ложиться спать по сигналу. Зато тут целый воз детей и воз питателей, и никого из них я никогда не забуду!» Так мог бы коротко рассказать об этой книге её главный герой. Не слишком образованный мальчишка, оказавшийся в современном французском приюте, подробно описывает всех обитателей «Фонтанов», их отношения друг с другом и со внешним миром, а главное – то, что происходит в его собственной голове.

Морские истории для детей, рассказанные юным неопытным матросом. Художник Тамбовкин Арнольд Георгиевич. Для дошкольного возраста.

Волчья лощина — живописный овраг, увитый плющом, с множеством цветов на дне. Через Волчью лощину Аннабель и её братья каждый день ходят в школу. Неподалёку живёт покалеченный войной безобидный бродяга Тоби. Он — друг Аннабель, благодаря ему девочка получает первые уроки доброты и сострадания. В Волчьей лощине Аннабель впервые сталкивается со школьной верзилой Бетти Гленгарри. В Бетти нет ничего хорошего, одна только злоба. Из-за неё Аннабель узнаёт, что такое страх и что зло бывает безнаказанным. Бетти заражает своей ненавистью всех в Волчьей лощине.
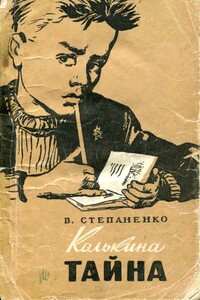
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Три несгоревшие рукописи, три безысходные сказки, три молитвы. Три романа Франца Кафки, изменившие облик литературы XX века. Творчество стало для него самоистязанием и единственной возможностью не задохнуться. Он страшился самой жизни, но отваживался широко раскрытыми глазами глядеть в бездну бытия.
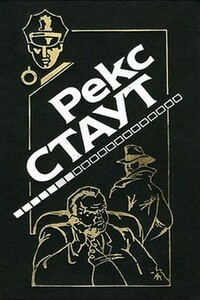
Вулф собирает у себя дома членов Манхэттенского цветочного клуба. Пока они любовались орхидеями, кто-то из приглашенных задушил его гостью Синтию, и Вулфу приходится раскрыть это преступление.
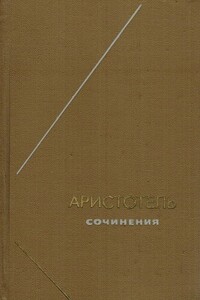
Перед вами труд величайшего древнегреческого философа, ученика Платона и воспитателя Александра Македонского — Аристотеля (384 – 322 до н. э.), оказавшего исключительное влияние на развитие западноевропейской философии.«Большая этика» — посвящена нравственным проблемам личности и общества и обоснованию главного принципа этики Аристотеля — разумного поведения и умеренности. Пер. Т. А. Миллер.

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба.Трилогия «Русская канарейка» – грандиозная сага о любви и о Музыке – в одном томе.

