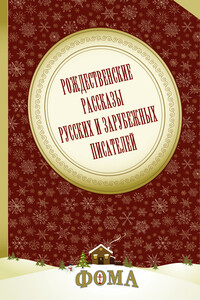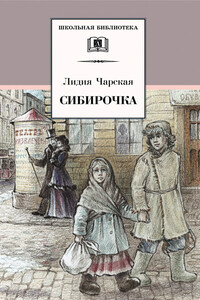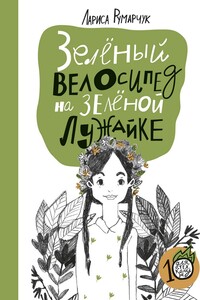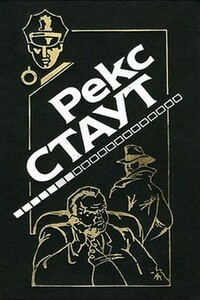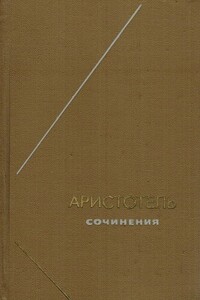— Нюша, Нюша. Проснитесь! Идите вниз и побудьте до двенадцати ночи у вас в девичьей, — говорит шепотом Ника, расталкивая спящую горничную, — и если вы обещаете молчать о том, что я вас просила уйти сегодня, то получите за это рубль на чай.
Растерявшейся Нюше остается только повиноваться. Она встает, покорная, заспанная, смущенно на глазах барышень натягивает чулки, белье, платье, накидывает платок и исчезает.
Теперь Ника бесшумно бросается в дортуар. Здесь она обегает три ряда постелей с неподвижно застывшими на них воспитанницами и срывает одеяло с каждой из них. В другое время несдобровать бы за это Нике, но сегодня, сейчас, воспитанницы выпускного класса знают отлично, что означает этот резкий маневр. И не дольше как через минуту тридцать пять белых фигур в длинных ночных рубашках и в туфлях на босу ногу бесшумно скользят за дверь.
— Месдамочки, смотрите, какой душонок.
— Прелесть какая!
— Это — маленький ангел!
— Очаровательный ангелок!
— Поцелуй меня, котик мой!
— Нет! Нет, меня первую!
— И меня, и меня тоже!
В умывальной собрался за малым разве исключением почти весь выпускной класс. В дортуаре остались только двое: Спящая Красавица — Нета Козельская, безжизненная девушка, имеющая способность засыпать всюду, где можно и где нельзя: в классе на уроках, в столовой за обедом, в часы рекреаций в зале, не считаясь с обстоятельствами места и времени; да еще Лулу Савикова, или M-lle Ком-иль-фо — по прозвищу институток, — первая ученица, любимица классных дам, усердная и прилежная, помешанная на приличиях. Институтки-одноклассницы недаром прозвали ее M-lle Ком-иль-фо или Комильфошкой. Лулу Савикова, считая себя аристократкой, хотя она только дочь небогатого чиновника, постоянно делает замечание подругам по поводу их неуменья держать себя.
— Fi donс, какие у тебя манеры! Это неприлично! — постоянно повторяет она.
Сама она чопорна, медленна, сдержанна, рассчитывает каждое свое движение и напоминает куклу-автомат. Разумеется, и нынче она не пожелала прийти босою в одной рубашке в умывальную комнату посмотреть племянницу Стеши и предпочла, сгорая от любопытства, оставаться в постели.
Но зато Валерьянка — Валя Балкашина, удивила всех. Пренебрегая сквозняками и холодом, которые мерещились ей везде и всюду, она появилась в теплых чулках и в кофте, накинутой поверх казенной сорочки. Заранее волнуясь и нюхая соли, посасывая мятные лепешки от тошноты (ее всегда тошнило в минуты волнения), она одной из первых притащилась в умывальную, кутаясь поверх всего в теплый байковый платок.
Ровно в одиннадцать часов, словно по команде, бесшумно раскрылась коридорная дверь, и Стеша, держа на руках малютку-племянницу, очутилась среди воспитанниц.
Глаша, ошеломленная встретившим ее бурным восторгом, прижалась к груди своей молоденькой тетки и, закрывшись, ручонкой, из-под ладошки разглядывала лица окружавших ее воспитанниц.
— Барышни, золотенькие, ради Господа Бога, потише. Не погубите, — шептала Стеша. — Потише, барышни, милые. Услышит Августа Христиановна — будет беда.
— Не услышит, она спит.
— И сладко грезит во сне…
— О старой сосне.
— Ха-ха-ха!
— А Глашенька ваша — душонок, прелесть, что за мордочка. Не правда ли, mesdames?
— Ангел! Прелесть! Восторг!
— Она, пожалуй, некрасива, но что-то в ней есть такое.
— Неправда, неправда. Она красавица, лучше Баян и даже Козельской.
— Ну уж, Козельская твоя: сурок, сонный крот и сова. Глашенька же — божество!
А «божество» в это время с аппетитом обсасывала барбарисовую карамельку, предупредительно подсунутую ей кем-то из воспитанниц. Черные глазенки Глаши лукаво поблескивали, а пухлые губки складывались в улыбку.
— Однако ж, mesdames, соловья баснями не кормят. «Душка», "восторг", «божество», "прелесть" — это мы говорить можем, а что нам делать с Глашей, этого, оказывается, нам придумать не под силу, — первою возвысила голос Шура Чернова, и сросшиеся брови ее сомкнулись над энергичными глазами.
— Да что придумывать-то, барышни? Хошь лбом стену пробей, не придумать ничего, — с отчаянием произнесла Стеша, — разве только одно: укутаю я потеплее Глашку, отнесу отсюда и оставлю на улице. Авось добрые люди ее подберут. Все едино — ни в подвал, ни в девичью нам с нею возвращаться нельзя. Я сказала, что увожу ее к знакомым, что берут они у меня девчонку. Стало быть, на улицу и надо ее нести.
— Нет, нет! Что вы говорите, Стеша! Это невозможно! Это бессердечно и жестоко! Я придумала совсем другой исход и, кажется, счастливый и, кажется, хороший. Хотите скажу?
Глаза Баян искрятся. Лицо улыбается всеми своими ямочками.
— Говори же, говори, что придумала, — нетерпеливо шепчут кругом.
— Ах, вы убедитесь, это очень просто. Совсем просто…
Ника вскакивает на край комода и, сидя "на облучке", говорит, уже пылко, горячо:
— Вы знаете, конечно, Бисмарка, Ефима; у него есть отдельная комнатка. Она совсем изолирована, туда никто не ходит. Она под лестницей. Я несколько раз заглядывала туда, когда посылала Ефима за покупками. Он очень аккуратный, чистый. И в каморке у него чистота. Он грамотный, читает газеты. Значит, умный, значит, толковый. Недаром же целые поколения институток прозвали его Бисмарком. У него две слабости: любовь к политике и к детям. Он постоянно зазывает к себе детишек и возится с ними. Что, если попросить его приютить у себя до поры до времени Глашу? Потом мы устроим ее как-нибудь иначе, а пока… Кормить и одевать мы ее будем сами: каждый день от обеда и ужина по очереди каждая из нас будет отдавать ей свою порцию — одна суп, другая жаркое, третья сладкое. На карманные деньги станем покупать ей платьица и сладости.