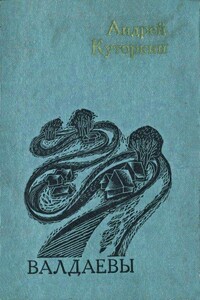Они пришли, как всегда, нежданно. После теплого, кроткого вечера и лунной тихой ночи вдруг на поздней, багряной утренней заре побелели крыши изб, амбаров, густо напудрилась луговина, и на дороге, в колеях сковал лужи первый тонкий прозрачный лед. Под яблонями и черемухами снежной пеленой лежали опавшие, свернувшиеся лепестки.
«Ну, дождались-таки… вот она, зима-матушка», — весело думала Анна Михайловна, затопив печь и выбегая к колодцу за водой, пожимаясь от холода и прислушиваясь, как поют под башмаками льдинки.
Солнце встало поздно, в тумане, согнало с крыш и земли морозное серебро, растопило льдинки и скрылось за тучами. Молочно-голубая изморозь повисла над полями. Ветер принес с гумен сырой, горьковатый запах риг и овинов, взметнул, закружил вороха ржавой, потускневшей листвы, подмел начисто улицы и пошел гулять и насвистывать по селу.
Ненастье продержалось с неделю, а затем снова вернулось тепло. По утрам и вечерам были заморозки, но днем солнце пригревало, и разубранные, точно на свадьбу, безмолвно рдели леса. В сосновом бору стояла такая непостижимая тишина, что слышно было, как звенела хвоя, падая на землю. Торопливо, молча пролетали в вышине запоздалые стаи журавлей. Все затаилось в ожидании. Не раз в утренники принимался кружить легкий и редкий, чуть видимый снежок. Он таял в воздухе, оседая на изгородях, жнивье холодной матовой пылью.
А потом сразу, как это бывает после долгой погожей осени, навалило сухого снега, подморозило, и тотчас установился хороший санный путь.
X
И не сбылось то, о чем мечтала Анна Михайловна. По первопутку неожиданно уехал в город Михаил на курсы счетоводов. А в декабре колхоз послал Алексея в МТС учиться на тракториста. Осталась Анна Михайловна одна.
Когда она в первый день истопила печь и, садясь в непривычной тишине пить чай, поставила, забывшись, на стол два стакана и потянулась, чтобы налить их, у нее онемела рука. Как всегда, клокотал старый, в царапинах и ямках, с позеленелой решеткой, медный самовар. Голубой, с отбитым носиком, чайник был горяч, и на крышке его чернели оброненные чаинки свежей заварки. Но этот горьковатый, крепкий, любимый ребятами чай не надо было наливать в стаканы. Холодные, пустые стояли они на столе под капающим краном самовара.
Мать убрала стаканы в горку, налила себе чашку, да так и не выпила.
Она стала прибираться в избе, и на глаза ей все попадались то мятая, запачканная кепка Михаила с оторванным козырьком, сунутая за комод, то Алексеева недочитанная книга с загнутой страницей, забытая на лавке, то брошенные на кровать брюки и рубашка. И, подбирая, мать подолгу рассматривала сыновние вещи, чистила, складывала и бережно прятала. Ей хотелось, чтобы этих разбросанных вещей было побольше, чтобы могла она целый день перебирать их и утешаться. Но как ни тянула она, пришел конец уборке.
Тогда Анна Михайловна достала с божницы мужнин кисет, школьные удостоверения сыновей, колхозные трудовые книжки. Без счету раз все это было осмотрено прежде. Что ж с того? Каждый раз мать любовалась, как впервые, и непременно что-нибудь находила новое, раньше ею не замеченное. И сейчас, сидя у окна, разложив на коленях бесценные сокровища, она отыскала в сборках, внутри кисета, завалявшиеся крупинки махорки. Она собрала их вместе с зеленой пылью на ладонь и понюхала. Повеяло давно забытым теплым и сладковато-горьким дыханием. Так пахли усы мужа.
Ладонь ее задрожала, и, боясь обронить хоть одну табачинку, Анна Михайловна поскорей ссыпала махорку обратно в кисет, прижала его вытертый, чуть щекочущий бархат к губам.
Да было ли это время или только снилось ей?.. Глаза ее затуманились.
Она взглянула на удостоверения. Золото букв солнцем горело на холодной плотной бумаге. Имена сыновей, написанные синими чернилами, выступали крупно и ясно. Отметки были проставлены помельче и не так разборчиво. И хотя мать знала эти отметки наизусть, она поднесла поближе к глазам удостоверение Михаила. Сощурившись, перечитала и обнаружила, что по географии и русскому языку отметки учителя вроде соскоблены ножиком и написаны заново чернилами посветлей.
«Обманул мать, — подумала она, качнув головой. — Баловство-то везде сказывается. Небось Леньке соскабливать нечего, коли учился хорошо… Ну, бог с тобой, — вздохнула она, — лишь бы себя не обманывал в жизни».
Она листала книжки со знакомыми цифрами трудодней и не могла еще раз не подивиться, как много выработали сыновья за лето. Все эти палочки, крючочки, аккуратно проставленные рукой Семенова, как живые, рассказывали о пережитом. И снова вставала перед матерью страдная пора: росистые голубые утра — со звоном и свистом кос; знойные полдни — с червонным разливом льна, грохотом теребилок, жарким всхрапываньем коней; тихие вечера — с туманами, скрипом возов, песнями, усталым и веселым говором народа, возвращающегося с поля. И что тогда огорчало, теперь в памяти мелькало быстро, как бы сглаживаясь, забываясь, а что радовало, стояло и не уходило, оборачиваясь такими подробностями, которые тогда и не замечались вовсе, а сейчас вот припомнились, трогая сердце.
Кошка, сблудив, уронила что-то на кухне. Анна Михайловна поднялась, чтобы посмотреть, и сразу ее окружили серый сумрак позднего зимнего утра, тягостная тишина пустой избы. Ей стало невмоготу, и она, одевшись, ушла из дому.