Святая тьма - [46]
Взять хотя бы Аугустина Холко, который рылся в закромах словацкого словарного запаса так непринужденно и виртуозно, как мальчонка в куче песка. Из слов и словечек он делал куличи и куличики, приглаживал их руками, проделывал ямки и туннели, иногда топтал ногами или разбрасывал, чтобы снова собрать в кучу и сделать новые куличики, и снова прихлопывал их руками… Это была чудесная игра, хоть и не всегда достойная такого солидного седого господина, метра всех словацких писателей… Но именно благодаря такому детскому творческому методу Холко сумел сочинить стихотворение "Черная среда", заслужившее первую словацкую государственную премию!
А Роберт Аквавита? Последний его сборник назывался несколько нескромно для монаха — "Валика в штанах". И нет ничего удивительного в том, что Аквавита чрезвычайно опечалил иных настоятелей монастырей и гимназических законоучителей, особенно тех, что были уже в годах, но зато обрадовал, даже, можно сказать, вскружил головы многим выпускницам средних школ и педагогических училищ. Какая жалость, что этот темпераментный поэт был монахом!
И наконец Ян Доминик! Этот был редактором. В третьем сборнике стихов ему удалось то, что редко кому удается: в загадочные аллегории и бессмысленные сплетения фраз он сумел ввернуть деликатнейшие и соблазнительнейшие "дамские штучки"! Критики писали — и они, вероятно, не ошибались, — что "из такой тонкой материи" иной поэт создал бы в лучшем случае лишь "культурное скотство", но он, Ян Доминик, создал истинную поэзию! Так возникла книга стихов "Привет, Амалия!" Неожиданный успех настолько ошеломил молодого поэта, что, меньше чем за год он превратился в непревзойденного шалопая.
— Я возьму с собой "Черную среду" Холко, "Валику в штанах" Аквавиты и "Привет, Амалия!" Доминика и попрошу авторов подписать их, — заявила Цецилия, уверенная, что ей предстоит принять участие в исключительном и неповторимом событии.
— А по мне, хоть пусти их на обертку! — хмуро пробурчал Ян. В душе у него все кипело, хотя в какой-то мере и ему хотелось наконец увидеть и услышать создателей того, что иногда принимают за поэзию.
Все сошло бы относительно гладко, если бы Цецилия Иванчикова не обнаружила дома письмо, написанное директором школы, командиром глинковской гарды Чаварой, и подписанное правительственным комиссаром города и председателем Словацкой народной партии Глинки Киприаном Светковичем: "Убедительная просьба к пани учительнице принять участие в вечере поэзии в кинотеатре "Гардист" и помочь обслужить поэтов на званом ужине в городском погребке".
— Ты, собственно, кто — официантка или учительница?! — закричал Ян, стукнув палкой об пол.
— Что ты на меня кричишь? Чего ты стучишь своей палкой?! — отрезала Цилька злобно и топнула ногой.
Лежавшая в коляске маленькая Анулька заплакала. За те два месяца, что она жила на свете, никто возле нее не кричал, не стучал палкой и не топал ногами. Из кухни прибежала Вильма Кламова, успокоила плачущую внучку и выставила дочь и зятя из комнаты.
— В кухне можете кричать и топать сколько душе угодно!
Молодые супруги смущенно и холодно глядели друг на друга, — долгожданный день был испорчен.
Первый шаг к примирению сделал Ян:
— Во всем виноваты эти чертовы поэты!
Но Цилька не могла успокоиться:
— Этих "чертовых поэтов" в Дубники приглашала не я!
— Но я на твоем месте не пошел бы туда.
— Скажи еще, что я бегаю за ними!
— Бегать не бегаешь, но ведь и в кино и в погребок с ними пойдешь?
Вильма Кламова отворила дверь в кухню:
— А не пойдет, так каждая дрянь будет ей потом в нос тыкать. Если б муж у нее был гардист — можно бы и ослушаться, а уж коли выбрала себе такого, как ты, коммуниста, так изволь делать, что прикажут. Если мужа посадят, а ее с работы выгонят, что будет с ребенком?
— Ну что вы говорите, матушка?! — простонала Цилька.
— А то и говорю, что пойдешь и в кино и в погребок!.. Никто тебе там носа не откусит… Только накорми Анульку сначала… Да не реви — молоко испортится!
Вильма снова прикрыла дверь, и в кухне воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь всхлипываньем Циль-ки, которая стояла у печки, уткнувшись лицом в стену.
— Но ведь тебе вовсе не обязательно туда идти, — просительно сказал Ян.
— Тебе все не обязательно! — Она бросилась в заднюю комнату и заперла дверь на крючок. Она всегда поступала так еще до замужества, когда ей хотелось в одиночестве выплакаться.
— Ну и ладно, — вздохнул Ян.
С минуту он грустно стоял посреди кухни, потом постучал в дверь, за которой скрылась Цилька. Ответа не было. Что-то жестокое, вздорное поднялось в нем, вложило ему в руки палку и погнало из дома во двор, а со двора на улицу. Ему казалось, что он убегает от самого себя, старается не дать себе опомниться и вернуться. Даже в тот вечер, когда он лежал, весь изрезанный, на столе у Бона-вентуры Клчованицкого, не было ему так скверно.
В трактире Имриха Каро на Крижной улице, возле кинотеатра "Гардист", заядлые картежники резались в карты. Играли почти с самого обеда, позабыв об ужине. Накурили так, что в табачном дыму их трудно было разглядеть, хотя на улице было еще совсем светло. За столом сидели Петер Амзлер, винодел Алоиз Транджик, габан Францл Тутцентгалер, трактирщик Имрих Каро и Штефан Гаджир. Неожиданно Гаджир воскликнул:

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
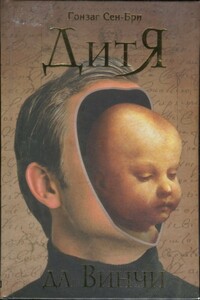
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
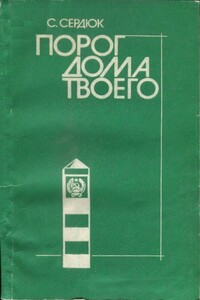
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.