Свобода слуг - [3]
Проблема в том, что свобода, понимаемая как отсутствие помех, не является – сама по себе – свободой граждан, но может быть свободой слуг и подданных. Лучше всего это сформулировал политический философ, который первым это описал, – Томас Гоббс в главе XXI «Левиафана» (1651): «свобода означает отсутствие сопротивления», и, следовательно, «свободный человек – тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать»[5]. Во избежание всяких сомнений Гоббс далее говорит нам, что такая свобода «совмещается с неограниченной властью суверена». Это замечание, впрочем, позднее повторяет и Исайя Берлин, когда отмечает, что свобода, понимаемая как отсутствие помех, может также быть свободой слуг или подданных, данной им абсолютным правителем[6].
Если хозяева или правители добры или слабы, или глупы, или не питают интереса к подавлению, слуги или подданные могут пользоваться свободой делать более или менее то, что им хочется. В классических комедиях можно найти множество примеров счастливых рабов или слуг, потому что им никто не мешает или не принуждает их. Раб Транион из «Привидения» Плавта в состоянии удовлетворить любой свой каприз, в чем его упрекает Грумион, не такой удачливый деревенский раб:
У него действительно завидное положение. «Так чего ж тебе», – жалуется бедный Грумион:
Транион прекрасно осознает свое везение и услужение ему ничуть не в тягость:
Труффальдино, если взять пример из Нового времени, служит аж двум господам и делает что хочет: ест, пьет и набивает карман. Жалуется на свое положение, когда считает, что хозяева не добры к нему: «Раз нас учат, что надо господам служить хозяевам с любовью, нужно и хозяевам внушать, чтоб они имели сколько-нибудь жалости к слугам»[8]. Случается ему и тумаков получить, но это не такая большая беда с учетом выгоды: «Тяжеленько было прийти в себя после взбучки; зато поел я в свое удовольствие: пообедал хорошо, а вечером еще лучше поужинаю. Пока возможно буду служить двум хозяевам, до тех пор, по крайней мере, пока не получу оба жалованья»[9]. Служить двум господам – не самое честное занятие, но в конечном счете простительное: «Да, синьор. Я это сделал, и номер прошел. Попал я в такое положение нечаянно, а потом захотелось попробовать, что из этого выйдет. Правда, продержался я недолго, но зато могу похвастать, что никто меня не накрыл, пока я сам не признался из-за любви к этой девушке. Туго мне пришлось, и кое в чем я проштрафился. Но надеюсь, что ради такого необычного случая все вы, господа, простите меня»[10].
Свобода граждан, или республиканская свобода, – это нечто иное. Она состоит не в том, чтобы вам не мешали или не угнетали, а в том, что над вами нет господина, или в том, что вы не являетесь объектом неограниченной или огромной власти другого человека или группы людей. Под неограниченной властью я понимаю власть того, кто может навязывать свою волю, как ему вздумается, не будучи ограничен другими видами власти. Огромная власть – это власть, значительно превосходящая власть других граждан, настолько сильная, что может избегать санкций закона или обходиться с ним, как ей захочется. Согласно существующему определению, нашу свободу могут подавить только действия других людей; согласно республиканской концепции, свобода гражданина умирает просто в силу существования неограниченной или огромной власти. Даже если неограниченная или огромная власть утвердилась законным образом и действует в интересах подданных, само ее существование делает из граждан слуг.
Хотя я уже касался этой темы, полезно уточнить концепцию зависимости и разницу между зависимостью и вмешательством. Для этого я обращусь к некоторым примерам: тиран или олигархия, которые могут угнетать, не боясь столкнуться с санкциями, предусмотренными законом; жена, с которой муж может плохо обращаться, но которая не может ни оказать сопротивление, ни получить компенсацию; работники, которые могут подвергаться всевозможным злоупотреблениям, мелким и крупным, со стороны работодателя или начальника; пенсионеры, которым приходится зависеть от каприза чиновника, чтобы получить пенсию, положенную по закону; больные, которым приходится надеяться на то, что врач их вылечит по доброй воле; молодые ученые, знающие, что их карьера зависит не от качества их работы, а от каприза профессора; граждане, которых полиция по своему усмотрению может бросить в тюрьму.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
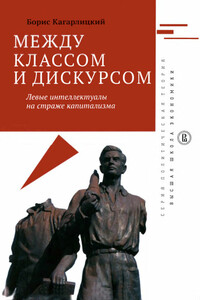
Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств». Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина.
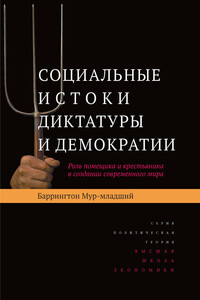
В классической работе выдающегося американского исторического социолога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005) предлагается объяснение того, почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все модернизационные усилия, пришли к тоталитарным диктатурам правого или левого толка. Проведенный автором сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным – буржуазная революция, «революция сверху» и крестьянская революция – показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры. Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами политической, экономической и социальной модернизации.

Роджер Скрутон, один из главных критиков левых идей, обращается к творчеству тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого направления мысли. В доступной форме он разбирает теории Эрика Хобсбаума и Эдварда Палмера Томпсона, Джона Кеннета Гэлбрейта и Рональда Дворкина, Жана-Поля Сартра и Мишеля Фуко, Дьёрдя Лукача и Юргена Хабермаса, Луи Альтюссера, Жака Лакана и Жиля Делёза, Антонио Грамши, Перри Андерсона и Эдварда Саида, Алена Бадью и Славоя Жижека. Предметом анализа выступает движение новых левых не только на современном этапе, но и в процессе формирования с конца 1950-х годов.
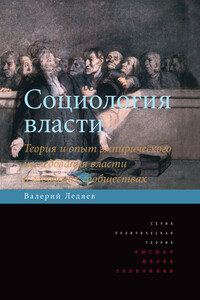
В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.