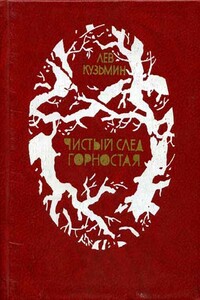Светлячок на ладошке - [3]
— Стою я у крыльца, трясусь, а к избе, смотрю, пастух Федька бежит. С ним матушка с тятенькой бегут тоже. Только не они Федьку к нам ведут, а он их сам чуть ли не за руки тащит. «Ишь, — горлопанит, — чего удумали! Я ихнего ягненка в лесу проспал… Да не может этого быть! Он у вас, у разинь, где-то здеся!» И шасть, милушки мои, туда, шасть сюда, и лезет к нам под крыльцо. А там у нас худая кадушка на боку лежала — он из этой кадушки ягненка-то и вытаскивает. «Вот, — говорит, — где он у хороших хозяев устроился ночевать, вот где! Я с вас за этот шум, за мои нервы осенью при расчете лишний пуд картошки возьму!» Тятенька, конечно, сконфузился, теперь на меня медведем пошел. А я от него в сторонку, в сторонку, сама кричу Федьке: «Все равно, Федя, что-то тут не так! Это сейчас барашек оказался под крыльцом, а совсем недавно он в Митькинище бебекал. Я спускалась туда. Я там чуть со страху не померла. Там еще и вода в бочаге дыбом встает, бухает!» А Федька послушал меня, да и тоже обсмеял: «Бухают, Катеринушка-недотепушка, караси-полупудовики, а кричит „бе-е“ — это птах такой. Тоже барашком называется, или, по-охотницки, — бекас. Видно, парочку себе ищет; видно, гнездо собирается заводить… Да только вряд ли заводить возле нашей деревни станет, больно у нас тут народ суматошный. С ума рядом с нами спятишь!» И повернулся Федька, на тятеньку на моего взглянул еще разок да и ушагал со двора. Вот так-то! Вот какая история вышла у нас в прежние-то годы с этим Митькинищем…
И бабка Катерина улыбается теперь сама, и Оля вовсю смеется, и мы смеемся.
Я спрашиваю:
— Отчего ж нам туда не ходить, если там ничего такого и нету?
— Там нету, а дома будет! — отвечает, посмеиваясь, бабка. — Как мне самой потом от тятеньки все равно было…
Подобных историй бабка Катерина помнила бессчетно, да бот то, что я хочу рассказать дальше сам, началось именно с этой. С истории про Федьку, барашка и Митькинище.
Насмеялись мы тогда, наговорились досыта и стали собираться домой. Оля тоже с нами наладилась.
— Провожу, — говорит, — маленькую Кланюшку, да и дверь потом запру.
И мы опять все высыпали на улицу. А там уж совсем настоящая ночь. В небе над крышами ни единой звездочки не горит, огни в окошках тоже почти везде погасли, и очень пахнет травой, теплой сыростью, — вот-вот, кажется, закрапает дождик.
И мы бы сразу тут и разбежались по своим дворам, но Шурик возьми да и спроси всех нас:
— А что, если бы теперь настоящий барашек под горой забякал… Пошел бы кто искать?
— Я бы пошел! — сразу откликнулся я.
Откликнулся просто так, из одного лишь хорошего настроения, на моем месте и любой бы то же самое ответил, но Шурик вдруг хмыкнул и насмешливо сказал:
— Хвастаешь!
Да еще и добавил:
— За барашком ходить — это тебе не под чей-то мячик подставляться.
И случись у нас такое с Шуриком один на один, без свидетелей, я бы ему тоже отчеканил: «Ты сам, когда играешь, всегда под Олин мячик подставляешься!» Сказал бы да и помчался домой, но теперь здесь была сама Оля, и я брякнул вновь:
— Если захочу, под гору в Митькинище сбегаю хоть сейчас!
— Ну и беги! Сам небось спрячешься, отсидишься рядышком с деревней, а потом скажешь — был… — не утерпел, опять подначил меня Шурик, и тут надо мной засмеялись все.
Одна Оля не стала смеяться. Она-то сразу поняла, что меня, как при игре в лапту, начинают «заваживать», да я и сам начинаю заводиться, и меня давным-давно пора выручать.
Оля сказала совсем спокойно:
— Хватит вам. Все и так знают, что Лёнька смелый.
И спор бы утих, и все бы, конечно, обошлось, не влезь тут не в свое дело маленькая Кланюшка.
Маленькая, шепелявенькая, тихонькая, она и у бабки-то Катерины всегда помалкивала, а теперь вдруг прыснула и, подражая Шурику, пристегнула к Олиным словам:
— Шмелый, как жаяц!
И это решило все. Оля хотя и одернула Кланюшку так, что дна ойкнула на всю улицу, но меня уже словно какой вихрь подхватил.
Я выскочил прямо на проезжую дорогу, отчаянно и громко гаркнул первое, что в голову пришло:
— Эх, грудь в крестах или голова в кустах! А ну, раздайся, народ, а то конем стопчу!
И залихватски, будто плетью, полоснул рукой по воздуху, взлягнул пятками и — ударился за деревню, под крутую гору, вниз.
Вслед мне что-то закричала Оля. Закричала Кланюшка. Потом загорланили все. Даже Шурик вроде бы начал звать меня обратно, да я летел теперь так, что и сам себя не смог бы остановить.
Несли меня вниз, прямо в глухую тьму под горой, прямо в самую бездну Митькинища, даже не ноги, а какие-то непонятные силы. И то ли это сперва была гордость, то ли злость, объяснить не могу; а вот то, что очень скоро меня охватил самый настоящий ужас, так это уж верно. И охватил он меня как-то странно. Я бежал не от него, я бежал прямо на него. И чем страшнее мне было бежать, тем сильнее и сильнее я наддавал. Мчался я так, словно страх — это черная, тонкая, летящая где-то передо мной стенка; и мне казалось, что если я догоню ее и прошибу, то вот только тогда все жуткое и кончится.
Я несся, не разбирая дороги. И сколько я бежал, я не знаю. Может быть, полверсты, а может, и целую версту, — но я ничего не видел и не слышал.
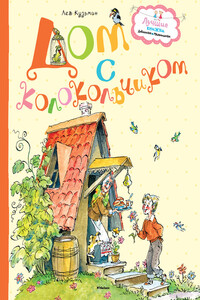
Лев Иванович Кузьмин (1928–2000) известен своими произведениями для детей всех возрастов. Есть у него рассказы для младших школьников, есть повести для школьников постарше, а есть произведения для совсем маленьких читателей – весёлые, озорные стихи и добрые, удивительно тёплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в его стихах, какой простор для воображения!Книгу «Дом с колокольчиком», в которую вошли замечательные стихи и рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям.

«Золотые острова» — новый сборник прозы известного в стране детского писателя Льва Кузьмина. Основные темы сборника — первая чистая детская любовь друг к другу, мир детский и мир взрослый в их непростых связях, труд и народные праздники на земле-кормилице, а также увлекательные приключения тех, кого мы называем «братьями нашими меньшими».

Герои этой повести-сказки отправляются в увлекательное путешествие. Много приключений ожидает их в дальних странствиях. А в конце своего путешествия по волшебному Серебряному Меридиану они попадут в Самую Лучшую Страну… А что это за страна - вы узнаете, когда прочтёте книгу.Иллюстрации Светланы Петровны Можаевой.