Свеча горела - [25]
1918
Высокая болезнь
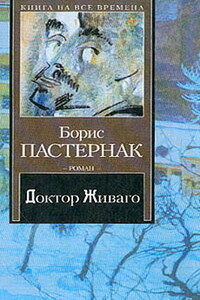
«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Евгения Владимировна Пастернак (Лурье) – художница, первая жена Бориса Пастернака; их переписка началась в 1921-м и длилась до смерти поэта в 1960 году. Письма влюбленных, позже – молодоженов, молодых родителей, расстающихся супругов – и двух равновеликих личностей, художницы и поэта…Переписка дополнена комментариями и воспоминаниями их сына Евгения Борисовича и складывается в цельное повествование, охватывающее почти всю жизнь Бориса Пастернака.
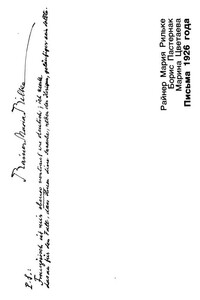
Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

Каждая строчка прекрасного русского поэта Николая Рубцова, щемящая интонация его стихов – все это выстрадано человеком, живущим болью своего времени, своей родины. Этим он нам и дорог. Тихая поэзия Рубцова проникает в душу, к ней хочется возвращаться вновь и вновь. Его лирика на редкость музыкальна. Не случайно многие его стихи, в том числе и вошедшие в этот сборник, стали нашими любимыми песнями.

Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах.

«Без свободы я умираю», – говорил Владимир Высоцкий. Свобода – причина его поэзии, хриплого стона, от которого взвывали динамики, в то время когда полагалось молчать. Но глубокая боль его прорывалась сквозь немоту, побеждала страх. Это был голос святой надежды и гордой веры… Столь же необходимых нам и теперь. И всегда.
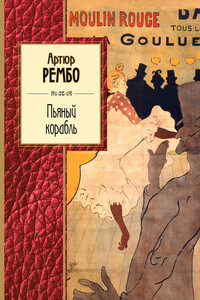
Лучшие стихотворения прошлого и настоящего – в «Золотой серии поэзии»Артюр Рембо, гениально одаренный поэт, о котором Виктор Гюго сказал: «Это Шекспир-дитя». Его творчество – воплощение свободы и бунтарства, писал Рембо всего три года, а после ушел навсегда из искусства, но и за это время успел создать удивительные стихи, повлиявшие на литературу XX века.