«Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком - [96]
Но еще до широкого обсуждения московской писательской общественностью, которое было интересно лишь тем, кто и насколько поступится совестью и вымажет себя грязью перед всем светом, Б.Л. вдруг «выкинул номер», «удрал штуку», как говорили в старину.
В один из дней, уже после решения секретариата об исключении, Б.Л. неожиданно, без звонка, появился в Потаповском. Мы не ждали его, думали, что после такого тяжелого вчерашнего дня он отсидится дома. Вид у Б.Л. был и лукавый, и смущенный. Он спросил нас, что бы мы сказали, если бы он сейчас, именно сейчас, когда от него этого уже не ждут, отказался от премии. Я хочу особенно подчеркнуть, что для нас, собравшихся случайно в этот день в Потаповском – мы были втроем: мама, Ариадна Эфрон и я, – это было полной неожиданностью. Мы с мамой просто оторопели. Нам казалось, что власть уже отреагировала на отличие и факт получения не так уж теперь и важен. Кроме того, муссировались слухи, что ради «соблюдения лица» Б.Л. разрешат выехать за границу для получения премии. И неужели теперь, когда за это отличие пролито уже столько крови, отказываться от него? В тщеславных своих мечтах мы уже рисовали себе Б.Л., произносящего речь перед королем, и, может быть, где-нибудь в зале лица близких. Ведь в сумятице тех дней минуты отчаянья сменялись самыми легкомысленными надеждами. Надо учесть и легкий, жизнерадостный характер мамы, ту самую «облагораживающую беззаботность» Лары в романе, которую так любил в ней Б.Л.
И тут Б.Л. выложил нам, словно долго скрываемые козыри, что он только что с телеграфа, где полчаса назад отправил телеграмму об отказе от премии в Стокгольм. Мама очень огорчилась. Я тоже расстроилась.
В этот день, как и почти в каждый трудный для нас день, с нами была Аля Эфрон. Приткнувшись в углу красного дивана – ее обычное место, – она с утра сидела с бесконечным вязаньем под бесконечные звонки, деля с нами горести нобелевского отличия. Она подошла к Б.Л., поцеловала его и сказала: «Вот и молодец, Боря, вот и молодец». Не знаю, насколько она разделяла это решение. Впрочем, оно вполне укладывалось в ее «патриотическую» схему.
Текст отказа был тут же передан по радио и широко распубликован.
Кажется, именно 31 октября на общем собрании писателей Москвы и родилась идея: «Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?» (выступление С. С. Смирнова). Собрание обратилось к правительству с просьбой лишить предателя Б. Пастернака советского гражданства.
В начале собрания было зачитано письмо от Б.Л., после чего пошли выступления. Особенно рьяно пытались отмежеваться от Иуды «интеллигенты», такие, как Корнелий Зелинский, например. Этот бывший конструктивист заявил, что произнести сейчас имя Пастернака все равно что издать неприличный звук в обществе. Корнелий Люцианович был руководителем семинара критиков в Литературном институте, который я посещала. Как ни одиозно было его преподавание, такого выступления от своего руководителя я не ожидала: в нем был все же известный польский лоск, следы былой эрудиции и рафинированности. Кроме того, в 1957 году он лежал в больнице в Узком одновременно с Б.Л., и они даже – на почве общих анализов – как бы приятельствовали. И тут! И «нож в спину», и «Иуда», и «замаскировавшаяся и дурно пахнущая мерзость», и «извилистый враг», и трогательные сетования на «слишком снисходительную воспитательную работу среди писателей»! Это среди семидесятипятилетнего Корнелия Полюциановича (как дразнили его в институте) воспитательная работа! Досталось рикошетом и Коме Иванову. Злопамятность Корнелия поразительна – он призвал развенчать «лжеакадемика» Иванова, не подавшего ему руки из-за газетной статьи о Пастернаке.
Как после этого могла я вернуться в институт, ходить на этот семинар, слушать наставления Зелинского? Уже в ноябре мне пришлось просить о переводе на другое отделение, на самое «нейтральное» – переводческое. У нас было две переводческие группы – литовская и таджикская, и В. Россельс, заведующий, пожалел меня, – все поняв, перевел в «таджики».
Сейчас стенограмма собрания опубликована. Она, как справедливо указано в предисловии к ней, не нуждается в комментариях. Не знаю, царила ли на этом собрании скука, как в песне Александра Аркадьевича? Может быть, кое-кто и скучал, но было много и живой злобы.
Некоторые выступления оказались для нас неожиданностью. Слуцкого, Мартынова, например. Говорят, что Слуцкому поставили ультиматум – либо выступление, либо партийный билет на стол. Чем пригрозили беспартийным? Один знакомый, не член Союза писателей, специально проникший на это собрание и составивший краткую стенограмму выступлений, говорил, что особенно тяжелое впечатление произвел Сергей Сергеевич Смирнов, председатель, именно своей искренностью. Это не изолгавшийся циник, как Зелинский, не явный (в этом случае) лицемер, как Слуцкий, не ортодоксальная коммунистка, как Николаева, а искренний советский патриот, то есть человек в известном смысле как бы «кастрированный», для которого публикация своего произведения в другой стране мира может быть только изменой.

Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове.
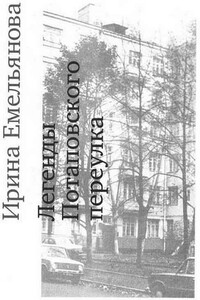
Ирина Емельянова рассказывает о Б.Пастернаке, А.Эфрон, В.Шаламове, с которыми ей довелось встречаться в 50-60-е годы, а также о своей матери О.Ивинской (прототипе образа Лары в романе Б.Пастернака "Доктор Живаго"), разделившей не только тяжелые испытания в последний период жизни поэта (включая нобелевские дни), но и понесшей суровую кару за эту дружбу. Впервые публикуются письма А.Эфрон и В.Шаламова к О.Ивинской и И.Емельяновой. Воспроизводятся уникальные фотоматериалы из личного архива автора. В книгу включены также два очерка И.Емельяновой "Дочери света" и "Дудочник с Фурманного переулка".

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.

Автобиографическое издание «С гитарой по жизни» повествует об одном из тех, кого сейчас называют «детьми войны». Им пришлось жить как раз в то время, о котором кто-то сказал: «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Людям этого поколения судьба послала и отечественную войну, и «окончательно построенный социализм», а затем его крушение вместе со страной, которая вела к «светлому будущему». Несмотря на все испытания, автор сохранил любовь к музыке и свое страстное увлечение классической гитарой.

Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Сборник воспоминаний детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев, переживших голод 1921–1922 годов.

В книге академика В. А. Казначеева, проработавшего четверть века бок о бок с М. С. Горбачёвым, анализируются причины и последствия разложения ряда руководителей нашей страны.
