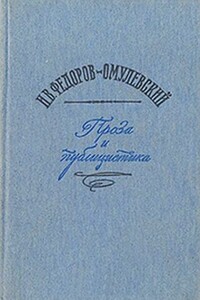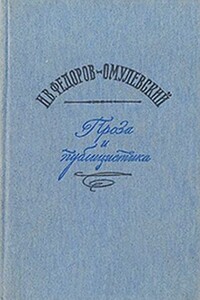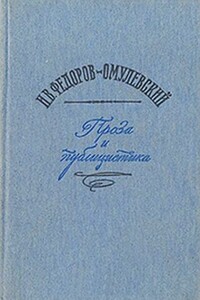Правда, не спит еще пономарь, как-то весьма неопределенно прохаживающийся мимо поповских ворот и, вероятно, припоминающий пение завтрашней обедни; да не спит еще станционный дворовый пес, «ему же несть названия». Это странное имя носит он, впрочем, совершенно законно, ибо им окрестил его однажды сам отец Прокофий, когда ни за что не мог добиться, как действительно зовут эту вислоухую собаку, которую на почтовом дворе всякий кличет по-своему, как кому вздумается. Но только эти два субъекта и бодрствуют, — да и те, вероятно, ненадолго.
И весь этот поголовный мертвецкий сон весьма близко напоминает здесь собою другой, более ужасный сон — сон преждевременной смерти заживо похороненных. Тишина царствует невообразимая. Чутко и долго прислушивается к этой тишине «ему же несть названия» — инда одурь берет его от скуки; но, не уловив ни единого звука, к которому можно было бы придраться по-собачьи, тоскливо поднимает кверху мохнатую морду и воет, да так протяжно, томительно воет, что не спящая в эту минуту попадья, услышав такой пронизывающий душу вой, крестясь, садится на постели и, вспоминая о каком-нибудь давным-давно умершем родственнике, невольно проговаривает вслух:
«Господи Иисусе Христе! К какому же это опять, мои матушки, покойнику-то развылась!»
Может быть, и в самом деле кто-нибудь скоро умрет на Крутологовской станции, — кто знает.
1862
[1]