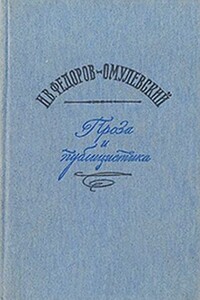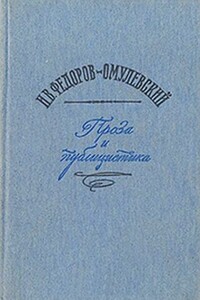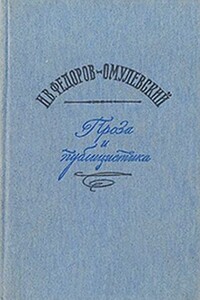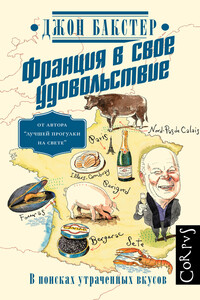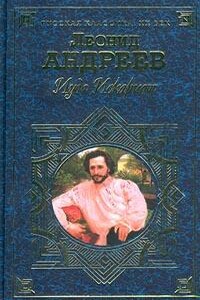Глава I
«A PROPOS, О СУМАСШЕДШИХ»
— Вы совершенно правы, любезный доктор, или, лучше сказать, я, как профан в этом деле, не имею права с вами не согласиться; но меня удивляет, что вы такого нелестного мнения о вашей профессии: подобный отзыв редко услышишь от специалиста…
— По крайней мере, я, князь, не дерзаю относиться к явлениям этой области иначе, как с величайшей осторожностью.
— Да, да, само собою разумеется… Повторяю: я готов с вами согласиться, что «эксцентрики только до известной степени подлежат вашему исследованию; но… мне кажется, в некоторых… конечно, исключительных случаях… Однако виноват! — прежде всего, чего же мы выпьем с вами?»
— Полагаю, чего-нибудь легонького; впрочем, для меня это совершенно безразлично.
— Я предложил бы, со своей стороны, распить бутылку кло-де-вужо. Вы ничего не имеете против этого?
— Да все равно, хоть кло-де-вужо.
Разговор этот происходил в Петербурге, в начале июля, часов около семи вечера, в отдельном кабинете ресторана Вольфа ни Невском. Тот, которого один из собеседников называл князем, был молодой, изящный гвардеец, с белокурыми, несколько вьющимися волосами, с тонкими усиками, кокетливо завитыми кверху, почти в колечко. Он мог бы, но всей справедливости, считать себя безукоризненно-красивым мужчиной, если бы его лица не портили слишком крупные голубые глаза, с каким-то ребяческим и, отчасти, злым упрямством смотревшие исподлобья. Звали этого гвардейца князем. Петром Михайловичем Львовым-Островским.
Как бы в нарочный контраст ему, другой из собеседников, называвшийся доктором, был совершенный брюнет, лет двадцати восьми, с такими строгими черными глазами, что на них трудно было смотреть долго в упор; они, казалось, сразу проникали сквозь золотые очки в самые сокровенные мысли того, к кому обращались. Лицо доктора вообще не могло похвастаться особенной красивостью — оно было и неправильно, и даже несколько грубовато; но именно глаза придавали ему столько оригинальной выразительности, столько ума, что лицо надолго запоминалось, невольно тянуло к себе, невольно интересовало. Не менее своеобразной прелести придавала ему и улыбка: чрезвычайно тонкая и почти насмешливая, она начиналась где-то у глаз, чуть-чуть касалась губ и тотчас же опять пропадала, как бы теряясь в густой окладистой бороде. Впрочем, строго говоря, даже и невозможно было подметить начала или конца этой странной улыбки: она до того быстро сверкала в выразительных чертах доктора, что была почти неуловима. Однако ж рядом с нею и несмотря на молодость, в его манерах и движениях резко проглядывала не то медленность и как бы усталость, не то сановитость. Одет он был весь в черное, просто и, пожалуй, даже скромно, только на груди рубашки, отличавшейся безукоризненной белизной, ярко играли у него разноцветными лучами три брильянтовые запонки. Звали этого господина Львом Николаевичем Матовым.
Оба собеседника сидели молча, рассеянно поглядывая в окно, пока слуга ресторана не поставил перед ними бутылку красного вина и большой кусок честеру.
— A propos, о сумасшедших, любезный доктор, — весело заговорил князь, разливая в стаканы вино и как бы случайно вспомнив о чем-то, — в нашем семействе водится очень интересный субъект подобного рода…
— Да?
— Очень, очень занимательный субъект, доктор, и, главное, представьте, пользующийся до сих пор совершенной свободой…
— Каким образом? — сухо спросил Матов, лениво отрезывая себе тонкий ломтик сыру.
— Мало того, — пояснил князь, как бы уклоняясь от прямого ответа, — наш больной субъект даже распоряжается порядочной массой людей. Дело идет, любезный доктор, ни больше ни меньше, как о моей родной тетке. Тетушка эта действительно преинтересная личность. Не думайте, впрочем, что я хочу познакомить вас с какой-нибудь почтенной, дряхлой старушкой, беззубо дотягивающей свой грешный век; напротив, доктор, вы будете иметь дело с цветущей молодостью, с историей, так сказать, романтической…
— Вот как! — заметил Матов, поправляя очки. — Это начинает меня интересовать.
— И заинтересуетесь, непременно. Позвольте… я вам сейчас сочту лета моей тетушки. Она моложе меня четырьмя годами; мне теперь двадцать семь лет, — стало быть, ей… двадцать три года. Совсем, как видите, романтический возраст… А вино это, право, недурно, не правда ли?
И князь с видом знатока, небрежно поднял свой стакан и, прищурившись, досмотрел сквозь него на свет.
— Вы уж позвольте мне начать мою историю о тетушке, так сказать, с самого начала, — продолжал он, прихлебнув несколько раз из стакана. — Надо вам заметить, что у деда моего по матери, Александра Николаевича Белозерова, все семейство состояло из жены и двух дочерей; наследников мужского пола не было. Старшая дочь Белозеровых, Наталья Александровна, вышла впоследствии замуж за моего отца, князя Михаила Львовича Львова-Островского, а младшая, Евгения… она-то и есть, так сказать, субъект, подлежащий нашему исследованию, любезный доктор. Старики Белозеровы (то есть собственно он сам, а она-то была простая сибирячка, чуть ли даже не из мещанского звания) унаследовали очень большое родовое состояние. Жили они безвыездно в своем имении, вели себя отъявленными домоседами, но принимали у себя на барскую ногу множество гостей всевозможного калибра, начиная с губернатора и не брезгуя даже каким-нибудь волостным писарем. Вообще у них в доме лежала на всем какая-то своеобразная печать мещанства или, еще вернее, нравственного неряшества, распущенности. С того времени, как я стал помнить себя, они не очень-то жаловали нашу фамилию; мне даже и теперь еще непонятно, каким образом мог состояться брак между моим отцом и матерью при таких, по-видимому, неблагоприятных условиях. Особенно не благоволила к нам Евгения Александровна — моя героиня. Надо вам сказать, доктор, что это была в высшей степени капризная, взбалмошная девочка, избалованная до последней крайности. Будучи еще семилетним ребенком, она уже питала какую-то глупую вражду к нашему, соглашаюсь вперед, далеко не прекрасному полу, выйдет, бывало, в гостиную и, как только увидит мужчину, — сейчас же топнет ножонкой и убежит. В двенадцать лет Евгения Александровна откалывала, батюшка, с нами такие штуки, что за них приходилось краснеть иногда даже и нестыдливому человеку. Для примера расскажу вам один случай, бывший со мной. Раз как-то, именно в этот период ее возраста, Белозеровы давали у себя большой обед на открытом воздухе в саду. Мне только что исполнилось тогда шестнадцать лет, я был еще воспитанником пажеского корпуса и приехал погостить к ним в деревню на вакационное время. Женя (так обыкновенно звали в ту пору мы, домашние, младшую Белозерову) сидела за столом vis-à-vis со мной и все время обеда вела себя, против обыкновения, как-то уж чересчур смирно и прилично. Шутя, я раза три приставал к ней с вопросом: отчего она так притихла сегодня? Женя, однако ж, молчала и только выразительно сверкала на меня своим злым взглядом, который я как сейчас помню. Но во время десерта, когда я обратился к ней с тем же вопросом уже в четвертый раз, она, вся покраснев, проговорила сквозь зубы: «Ведь я же вас не спрашиваю, Пьер, отчего вы всегда бываете таким дураком!» Меня, как мальчугана, разумеется, это сконфузило, да и взбесило порядком; но, желая разыграть из себя роль вполне взрослого человека, я постарался подавить в себе досаду и сказал спокойно, как только мог: «Хорошо, Женя, докажи же мне, что ты действительно умница; помиримся!» — «Доказывают свой ум только такие, как вы!» — заносчиво возразила она. В эту минуту обед кончился, гости стали шумно вставать из-за стола, и Женя убежала вместо с дамами, которые отправились на балкон пить кофе. Немного погодя пошел туда и я. Как вы думаете, доктор, за каким оригинальным занятием застал я там моего маленького врага? Вот уж ни за что не угадать-то вам! Я нашел этого дикого зверька притаившимся за каким-то густым растением, в уголку балкона. Женя держала в одной руке мою щегольскую новенькую фуражку, а в другой — ножницы и преспокойно разрезывала ее на мелкие кусочки. Я чуть не задрожал от злости, зная, что в деревне неоткуда достать другую такую фуражку, но опять сдержал себя и только спросил: «Что ты это делаешь, Женя?» — «Доказываю свою глупость», — сказала она, не поднимая на меня глаз и невозмутимо продолжая свое занятие. Тут нам немного помешали. Женя небрежно швырнула фуражку и ножницы за ближайшую вазу, неторопливо вышла из угла и чинно уселась между дамами как ни в чем не бывало. Такое хладнокровие вывело меня наконец из терпения. Я поднял мою несчастную фуражку и тотчас же надел ее на голову растерявшейся девочки. Мне удалось сделать это так ловко, что движение мое сразу было замечено всеми, и я нарочно громко сказал: «Ты, вероятно, желала иметь, Женя, на память обо мне лоскуток сукну от моей фуражки? Возьми же: я дарю тебе ее целиком. Полно, помиримся!» — прибавил я ласково, видя, что у нее на ресницах дрожат слезы. При этом я хотел было взять ее за руку. Она быстро отдернула свою руку и вдруг ни с того ни с сего ударила меня по щеке, да так больно, что я едва мог опомниться… Но, право, доктор, вы очень лениво пьете ваше вино, а мне, как нарочно, припала охота распить еще бутылку…