Сумрачный рай самураев - [16]
О, мадам, что значит "чистка, избавление от ненужного хлама и дубликатов?" А как же "рукописи не горят" и все такое? Да, сами-то они не горят, их сжигают. Как чумные трупы в средние века. И век сгорит, как белая страница, немного дыма, и немного пепла... История. Русь. Колосс на глиняных ушах. Сюр, стоящий на голове. Сюр а ля Рюс - почти палиндром... А что, если сделать ход Троянским конем вбок? Комната, сумрак, слоны шкафов. Высокий сводчатый потолок в ящерицах трещин. Фреска - ангелочки влекут по зерцалу небес розовый венок. Их лица свирепы, как у ментов, волокущих "элыча" в "трезвователь". И сразу обступили, дышат, смотрят, щупают, - нет, пока не люди, а так, духи, низкие астралы. Лица безносые, безбровые, бескровные, черные дырки от пуль вместо глаз. И старина Вий тут, машет бескрайним веком, как опахалом... "Вижу, она здесь, с нами! Сука... "
На столе аккуратной стопочкой сложены папки - надо думать те, что эти архиереи архивные приготовили на съеденье огню. Ну, давай, делай, ты же за этим пришла! Щас, до семи сосчитаю. Первая мировая. Вторая древнейшая. Третья сигнальная. Четвертая власть. Пятая колонна. Шестое чувство. Семь сорок. Все, унылая, пора! Хватать и тикать! Но которую из? А что видит твой третий глаз на пупке? Давай, давай, тетка, не тяни презерватив, доверься подсознанию. Глаза боятся, руки воруют, причем воруют то, что нужно. Трудно, однако, вытащить случай из колоды судьбы так, чтобы колода не развалилась радостно и громко. А то ведь прибегут, достанут ледяной репрессивный инструментарий, получится неприятный разговор... Тут самой надо иметь хирургически хладнокровные, твердые, как принципы пальцы. И нервы карманника. И чтобы гулял по сердцу веселый сквознячок отчаяния, и чтобы волчьи зубы держали его на вечном прикусе. Вот, эта, третья папка снизу как будто бы источает истончающееся мерцание цвета запекшейся крови. Ее-то мы и заткнем за пояс, а сверху свитер. И тихо-тихо поползем вослед за овцами стада. Они уже припали к родникам, а добрый, благостный пастырь уже завел вечернюю проповедь, ослепнув от умиления... "Учитеся, трудитеся и к нам работать приходитеся!" Тускло шевелится ротик, узкий, как щель в копилке типа "свинья"... Нет, мадам, что-то не хотеся... По-видимому, никто ничего не увидел... Каламбур-с. Вот только живот-с. Папка жжет его, как утюг рэкетира. Как-то некстати вспомнилась сказка о спартанском мальчике, спрятавшем лисенка под туникой, а лисенок, уж на что зверь тупой, а кишки выгрызть волком догадался, собака... Солнце в солнечном сплетении угасло, зато затанцевала в нем раскаленная спица. И даже как будто бы страх оккупировал тело, схватил душу за тонкие волосы нервов и поволок ее, болезную, в пятки, пиночьями подбадривая. А вот и проходная, вертушка, этакий сверкающий, скрипучий крест на судьбе, старик вахтер, похожий профилем на Данте, (суровый Дант не презирал минета?). А что это у вас? А это у меня - я. Нехорошо. Девушка, а уже беременная. А еще комсомолка. К тому же красавица. Спортсменку, спортсменку забыл, дядя, весь мир, блин театр, и люди в нем - вахтеры... Только бы ангелы не продали, не стуканули, все ходы и выходы записаны, контора пишет и, преимущественно, доносы. Дверь, как провал в небытие, в тускло-серую, промерзшую до дна, безнадежную бесконечность. Веки неба набрякшие, вздутые, страшные как у Вия. Холод костяной, и снег, рассекающий ледяными бритвами лицо. И сердце не вовремя сорвалось с цепи, торжественно празднует труса, прыгает чертом по груди, крутится колючим колесом. Ты что, тетка, отступать поздно да и некуда. Дальше собственной помешавшейся души не отступишь... Да еще в смирительных колготках... Будьте ж душевны, больные! От себя не убежишь, но можно спрятаться. И свобода, нас, сволочь, заждалась у входа. Но радости нет в ее брезгливо-скорбном лице. Она хочет держать вора... Ага, а вот и вьюга, обрушились вертлявые белые бритвочки, облепили лицо. И бредит небо снегом, мечется в смятых серых простынях. Морозофрения и мокрофилия... Коньяк, полцарства за коньяк! Щас, нальем, ладошки подставляй...
Но еще минут пятнадцать перед подъездом своей шестнадцатиэтажки Стелла танцевала в сугробах, как на раскаленных ножах, дула на озябшие лапки, сделавшиеся без перчаток голубыми, прямо-таки как яйца дрозда. Смешно, но ей было страшно идти домой. А когда и смешно, и страшно, это значит - страшно смешно. Неизвестно, сколько бы еще Стелла разыгрывала из себя датскую принцессу, если бы добрый дедушка Мороз не врезал ей прозрачной палицей по затылку, сообщив, таким образом, необходимое начальное ускорение. В подъезде, как обычно, было не столь торжественно, сколь чудно. По углам болотным, фосфорецирующим огнем горели, приятно грея взгляд, бурые окаменелости и лимонные оледенелости, источающие ни с чем не сравнимый по прелести букет погреба и выгребной ямы. Ну и темно было, разумеется, как у Диогена в бочке. Старый, видавший не лучшие виды лифт, кряхтел, постанывал, щелкал, цокал цепями, никак, старичок, не мог достичь оргазма последнего этажа. Выше только крыша, а еще выше - съехавшее небо, умирающее, переколовшееся снежным героином. Лифт на эшафот, блин... Или на брудершафт? Древний сакральный тезис, вырезанный нежным ножичком на пластиковой стенке лифта, гласил... "Стелла - дура". Всякий раз, когда взор Стеллы приковывался к этому весьма категорическому императиву, чувство жуткого дежа вю начинало томить душу. Сколько их уже было - этих всяких разов? Хотя по существу вопроса возражений не возникало. Конечно, дура не хуже других. Старо предание, а верится легко. Вот хотя бы, чего это она так разлетелась, шустро шествуя во глубь квартиры, как радостный дурак по разухабистой российской дороге? Ну и, конечно, зацепилась ногой о какую-то невидимую в темноте хрень и с хрустом хряснулась всем телом вперед, распластавшись крестом на полу. Тишина черной кошкой прыснула по темной квартире, забилась в заветные углы и, отдышавшись, выслала на разведку переодетых шпионов... мохнатые шорохи, таинственное копошение, глухие перебежки мглистых теней.

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
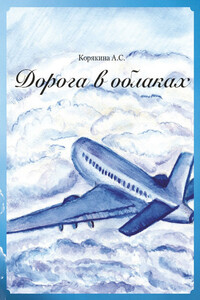
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
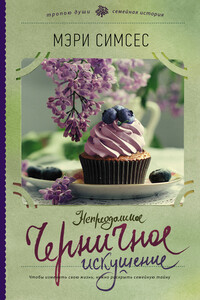
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?

Самая потаённая, тёмная, закрытая стыдливо от глаз посторонних сторона жизни главенствующая в жизни. Об инстинкте, уступающем по силе разве что инстинкту жизни. С которым жизнь сплошное, увы, далеко не всегда сладкое, но всегда гарантированное мученье. О блуде, страстях, ревности, пороках (пороках? Ха-Ха!) – покажите хоть одну персону не подверженную этим добродетелям. Какого черта!

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?