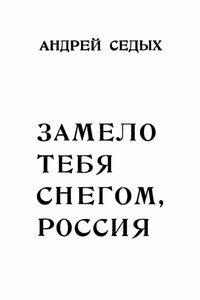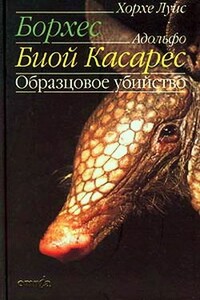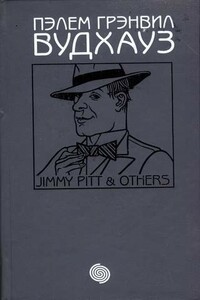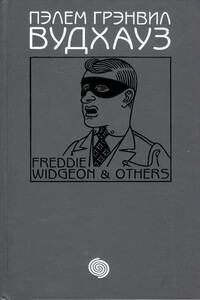Я никогда не пробовал яблок из собственного сада. Лет пятнадцать назад, на берегу реки Уазы был куплен домик, за серый свой цвет названный «Мышкой». Вокруг домика был пустырь, заросший травой, — здесь я рассчитывал разбить сад и огород. Купчую мы подписывали торжественно, у нотариуса, и свидетелями были два французских усатых фермера, старики в черных костюмах, черных шляпах, с зонтиками, которые они крепко держали в руках. Когда все формальности были выполнены, новый помещик пригласил свидетелей в кафэ распить бутылку вина. Фермеры пили серьезно, сосредоточенно, отпив вино слегка задерживали его, прополаскивая рот как дегустаторы, и потом солидно вытирали рукой усы.
На следующий день оказалось, что продавец меня надул. Под тончайшим верхним слоем земли оказался сплошной железнодорожный шлак. Неделями шлак этот вывозили на грузовиках, и те же грузовики привозили свежий чернозем. Когда в ворота сада въехал сотый грузовик, я начал подумывать о том, что пора объявить банкротство и отказаться от карьеры землевладельца в департаменте Сены и Уазы.
Рабочие, вывозившие шлак и насыпавшие свежую землю, брались за лопаты, поплевывали на руки, пили белое вино и уверяли, что сад будет на подобие версальского, — только без фонтанов. Из версальского сада ничего не вышло, он остался только на бумаге. Знакомый садовод-пейзажист действительно нарисовал роскошную картинку, которая до сих пор у меня хранится среди других реликвий прошлого.
Осенью на «Мышку» пришел садовник Монгадон, выпил вина и сказал, что пора садить фруктовые деревья, — не то начнутся дожди, потом утренние заморозки и нужный момент будет пропущен. На деревья решено было денег не жалеть, — брать пятилетние, самые лучшие и самые дорогие сорта, и Монгадон резонно объяснил:
— Вы эти фрукты всю жизнь будете есть. Когда-нибудь получите большое удовольствие.
Должно быть, каким то внутренним взором провидца он уже видел мои два нью-йоркские яблока.
Мы выбрали пятнадцать деревьев с таким расчетом, чтобы уж, действительно, обеспечить себя фруктами на всю жизнь. Были тут яблони, груши, слива, персиковое дерево, черешни. В конечном счете, сад должен был превратиться в ботанический ноев ковчег. В последнюю минуту откуда то появились десятки кустов малины и крыжовника, которые за недостатком места пришлось затем изгнать на огород.
Монгадон целыми днями был навеселе, так как за каждую вырытую для дерева яму ему полагалась свежая бутылки. Рыл он один, но деревья мы садили вместе, т. е. я деликатно держал деревцо за ствол, пока он орудовал лопатой и при этом мрачно бормотал:
— Разве это навоз? До войны был настоящий навоз, а теперь и люди, и лошади, уже не те…
С появлением навозных куч жена не выходила больше в сад, уверяя, что я превратил его в какое то свалочное место. Я всегда считал, что ее увлечение французскими духами к добру не приведет.
В ноябре деревья были посажены, подпорки поставлены, дорожки проложены. Я гулял по этим дорожкам, выдергивал сорную траву и хозяйским глазом поглядывал на мои тощие деревца. Основания стволов мы окружили проволочной сеткой, чтобы защищать их от кроликов, великих любителей молодой древесной коры. Пока что, сад выглядел совсем не так, как на многокрасочном рисунке моего пейзажиста. Воткнутые в землю дреколья — подпорки были толще, чем деревья. Но воображение работало обратно пропорционально действительности и рисовало будущий таинственный сад, ковер под раскидистой яблоней, и лежащего на ковре в жаркие послеполуденные часы землевладельца и помещика из департамента Сены и Уазы.
Не знаю, что испытывали в таких случаях другие, но мне тогда казалось, что моими пятнадцатью деревцами я украсил чуть ли не всю Вселенную, и что вообще жизнь прожита не даром: меня уже не будет, а тополь в глубине сада и плакучая ива по- прежнему будут зацветать ранней весной. Это, конечно, лирика, поэзия, но садоводы меня поймут.
Когда начались дожди и туманы, мы малодушно сбежали в город, бросив сад на произвол судьбы. Жизнь в нем не прекращалась, — птицы выклевывали мои осенние насаждения, кролики забирались по ночам на огород, в поисках забытой головки капусты, кроты нагло перекапывали дорожки, не считаясь с планами и чертежами садовода-пейзажиста. Все это мы обнаружили много позже, весной, когда снова начали наведываться на «Мышку». Приезжали мы не часто, — была весна сорокового года, шла «гнилая война» и теперь уже было не до сельских радостей. А жаль, сад менялся с удивительной быстротой, зацветала густая, персидская сирень, в зарослях на соседнем пустыре запели по ночам соловьи, и все это как то не вязалось с воинскими эшелонами, проходившими мимо нашего дома на Север, в сторону еще далекого фронта.
Все же, в последний мой приезд на «Мышку» я увидел, как зацвели яблони и вишни. Долго я сидел па весеннем, уже горячем припеке, любуясь моим зеленеющим клочком земли. Вокруг была великая тишина и покой, Потом откуда то издали, со стороны железнодорожного полотна, донесся гул самолетов и показались две черные металлические птицы с крестами на крыльях. Что то поблизости грохнуло, стекла в доме зазвенели, потом раздался другой удар, третий, и я счел благоразумным скатиться кубарем в подвал. Немцы сбросили бомбы на линию Париж-Бомон и улетели. Мне в моем великом озлоблении казалось, что целились они только в «Мышку» и лишь чудом ее не уничтожили.