Страх влияния. Карта перечитывания - [13]
Французские визионеры, близкие эпохе Декарта, Картезианской Сирене, работали в ином ключе, в духе серьезного и высокого юмора, апокалиптической иронии, кульминацией которой стало творчество Жарри и его учеников. Изучение Поэтического Влияния — это, вне всякого сомнения, ответвление 'Патафизики, и оно радостно сознается в том, что задолжало «этой Науке Воображаемых Решений». Когда Лoc у Блейка под влиянием Уризена, наставника-картезианца, низвергается в Творение-Падение, он отклоняется, и эта пародия на клинамен Лукреция, этот обмен судьбы на мимолетный каприз, это и есть, не без последней иронии, вся индивидуальность Уризенова творения, картезианского видения как такового. Клинамен, или отклонение, Уризенов эквивалент злополучных ошибок творения заново, произведенного Платоновым демиургом, — это, вне всякого сомнения, центральное рабочее понятие теории Поэтического Влияния. Ведь что отделяет каждого поэта от его Поэтического Отца (и, отделяя, спасает), как не инстанция творческого ревизионизма? Следует помнить, что клинамен всегда произволен от «произвольного» в патафизическом смысле слова. Поэт устанавливает своего предшественника так, отклоняет свой контекст так, что напряженнейшие объекты видений тают в универсуме. По отношению к гетерокосму предшественника поэту доступен произвол в устрашающем смысле равенства, или равной случайности, всех объектов. Этот смысл не редуктивен, ибо пересматривается и оформляется в видения именно универсум, становящийся контекст; он становится таким же напряженным, как и важнейшие объекты, которые вслед ля тем «тают» в нем, но совершенно не так, как то подразумевал Вордсворт в словах: «…тает в свете обычного дня». Патафизика оказывается по-настоящему точной; в мире поэтов все регулярности — в самом деле «регулярные исключения»; само возвращение видения — это закон, управляющий исключениями. Если каждое видение устанавливает особенный закон, то основание сияюще-ужасного парадокса Поэтического Влияния благополучно заложено; новый поэт сам устанавливает особенный закон предшественника. Если творческое истолкование — неизбежно неверное истолкование, мы должны смириться с очевидным абсурдом. Это высочайший модус абсурда, апокалиптическая абсурдность Жарри или всего, что делал Блейк.
Совершим диалектический скачок: большинство так называемых «точных» истолкований поэзии хуже, чем ошибки; может быть, существуют только более или менее творческие или интересные перечитывания, ибо не всякое ли прочтение — клинамен? Не следует ли нам в таком случае в том же духе попытаться все- таки обновить изучение поэзии возвращением назад, к основаниям? Ни у одного стихотворения нет истоков, и ни одно стихотворение не добавляется попросту к другому. Стихи пишутся людьми, а не анонимными Сияниями. Чем сильнее человек, тем сильнее его негодование, тем более беззастенчив его клинамен. Но чего ради мы, читатели, отказываемся от своего клинамена?
Я предлагаю не вариант поэтики, но абсолютно новую практическую критику. Давайте откажемся от незадавшегося поиска понимания каждого отдельно взятого стихотворения как сущности в себе. Давайте вместо этого поищем навыки чтения каждого стихотворения как преднамеренно неверного толкования стихотворения-предшественника или всей поэзии вообще, созданного поэтом как поэтом. Узнайте каждое стихотворение по его клинамену, и вы узнаете, что стихотворение, между прочим, не приобретает знания в обмен на утрачиваемую стихотворную силу. Я говорю об этом, имея в виду отрицание Пейтером знаменитой органической аналогии Кольриджа. Пейтер чувствовал, что, создавая стихотворения, Кольридж (может быть, и непроизвольно) ускользает от боли и страдания поэта, от печалей, отчасти зависящих от страха влияния и неотделимых от значения стихотворения.
Борхес, рассуждая о понятии возвышенного у Паскаля и об ужасающем смысле его Сферы Страха, противопоставляет Паскалю Бруно, который в 1584 году мог еще ликовать по поводу Коперниканской революции. За семьдесят лет мир постарел — Донн, Мильтон, Гленвилл считали упадком то, чему Бруно радовался как достижению мысли. Борхес подводит итог: «В этот малодушный век идея абсолютного пространства, внушаемая гекзаметрами Лукреция, того абсолютного пространства, которое дня Бруно было освобождением, стала для Паскаля лабиринтом и бездной». Борхес не жалеет об этой перемене, ведь и Паскалю доступно Возвышенное. Но сильные поэты, в отличие от Паскаля, существуют не для того, чтобы принимать изъявления сочувствия; они не согласны получать Возвышенное такой ценой. Как сам Лукреций, они склонны считать клинамен свободой. Итак, Лукреций:
…Уносясь в пустоте, в направлении книзу отвесном, Собственным весом тела изначальные в некое время В месте неведомом нам начинают слегка отклоняться, Так что едва и назвать отклонением это возможно. Если ж, как капли дождя, они вниз продолжали бы падать, Не отклоняясь ничуть на пути в пустоте необъятной, То никаких бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось, И ничего никогда породить не могла бы природа.
…Но чтоб ум не по внутренней только Необходимости все совершал и чтоб вынужден не был Только сносить и терпеть и пред ней побежденный склоняться, Легкое служит к тому первичных начал отклоненье, И не в положенный срок и на месте дотоль неизвестном.

«Западный канон» — самая известная и, наверное, самая полемическая книга Гарольда Блума (р. 1930), Стерлингского профессора Йельского университета, знаменитого американского критика и литературоведа. Блум страстно защищает автономность эстетической ценности и необходимость канона перед лицом «Школы ресентимента» — тех культурных тенденций, которые со времен первой публикации книги (1994) стали практически непререкаемыми. Развивая сформулированные в других своих книгах концепции «страха влияния» и «творческого искажения», Блум рассказывает о двадцати шести главных авторах Западного мира (от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды), а в самый центр канона помещает Шекспира, который, как полагает исследователь, во многом нас всех создал.

Современный Афганистан – это страна-антилидер по вопросам безопасности, образования и экономического развития. Его печальное настоящее резко контрастирует с блистательным прошлым, когда Афганистан являлся одним из ключевых отрезков Великого шелкового пути и «солнечным сплетением Евразии». Но почему эта древняя страна до сих пор не исчезает из новостных сводок? Что на протяжении веков притягивало к ней завоевателей? По какой причине Афганистан называют «кладбищем империй» и правда ли, что никто никогда не смог его покорить? Каковы перспективы развития Афганистана и почему он так важен для современного мира? Да и вообще – что такое Афганистан? Ответы на эти и многие другие вопросы – в настоящей книге. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
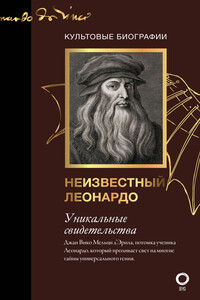
В своей книге прямой потомок Франческо Мельци, самого близкого друга и ученика Леонардо да Винчи — Джан Вико Мельци д’Эрил реконструирует биографию Леонардо, прослеживает жизнь картин и рукописей, которые предок автора Франческо Мельци получил по наследству. Гений живописи и науки показан в повседневной жизни и в периоды вдохновения и создания его великих творений. Книга проливает свет на многие тайны, знакомит с малоизвестными подробностями — и читается как детектив, основанный на реальных событиях. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.
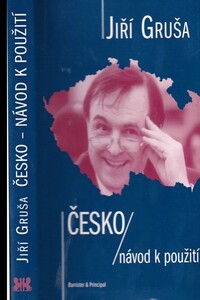
Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.