Стихи - [20]
But call me first through the gate;
For the good are always the merry,
Save by an evil chance,
And the merry love the fiddle,
And the merry love to dance:
And when the folk there spy me,
They will all come up to me,
With "Here is the fiddler of Dooney!"
And dance like a wave of the sea.
Строки, написанные в минуту уныния
Когда же я глядел в последний раз
На черных леопардов под луной,
На волны длинных тел и зелень глаз?
И вольных ведьм на свете — ни одной,
Сих дам достойнейших: ни метел их, ни слёз,
Сердитых слёз их больше нет как нет.
Святых кентавров не сыскать в холмах,
И я жестоким солнцем ослеплен.
Воительница-мать, луна, вернулась в прах.
На рубеже пятидесяти лет
Я боязливым солнцем ослеплен.
When have I last looked on
The round green eyes and the long wavering bodies
Of the dark leopards of the moon?
All the wild witches those most noble ladies,
For all their broom-sticks and their tears,
Their angry tears, are gone.
The holy centaurs of the hills are vanished;
I have nothing but the embittered sun;
Banished heroic mother moon and vanished,
And now that I have come to fifty years
I must endure the timid sun.
Увядание ветвей
Шепталась с птицами луна, и я воскликнул: "Пусть
Не молкнут крики кулика и ржанки горький стон, -
Но где же нега слов твоих, и радость их, и грусть?
Смотри: дорогам нет конца, и нет душе приюта".
Медово-бледная луна легла на сонный склон,
И я на Эхтге[43] задремал, в ручьевой стороне.
Не ветер ветви иссушил, не зимний холод лютый, -
Иссохли ветви, услыхав, что видел я во сне.
Я знаю тропы, где идут колдуньи в час ночной,
В венцах жемчужных поднявшись из мглы озерных вод,
С куделью и веретеном, с улыбкой потайной;
Я знаю, где луна плывет, где, пеною обуты,
Танцоры племени Дану[44] сплетают хоровод
На луговинах островных при стынущей луне.
Не ветер ветви иссушил, не зимний холод лютый, -
Иссохли ветви, услыхав, что видел я во сне.
Я знаю сонную страну, где лебеди кружат,[45]
Цепочкой скованы златой, и на лету поют,
Где королева и король в блаженстве без отрад
Блуждают молча: взор и слух навек у них замкнуты
Премудростью, что в сердце им лебяжьи песни льют, -
То знаю я да племя птиц в ручьевой стороне.
Не ветер ветви иссушил, не зимний холод лютый, -
Иссохли ветви, услыхав, что видел я во сне.
I CRIED when the moon was murmuring to the birds:
"Let peewit call and curlew cry where they will,
I long for your merry and tender and pitiful words,
For the roads are unending, and there is no place to my mind."
The honey-pale moon lay low on the sleepy hill,
And I fell asleep upon lonely Echtge of streams.
No boughs have withered because of the wintry wind;
The boughs have withered because I have told them my dreams.
I know of the leafy paths that the witches take,
Who come with their crowns of pearl and their spindles of wool,
And their secret smile, out of the depths of the lake;
I know where a dim moon drifts, where the Danaan kind
Wind and unwind their dances when the light grows cool
On the island lawns, their feet where the pale foam gleams.
No boughs have withered because of the wintry wind;
The boughs have withered because I have told them my dreams.
I know of the sleepy country, where swans fly round
Coupled with golden chains, and sing as they fly.
A king and a queen are wandering there, and the sound
Has made them so happy and hopeless, so deaf and so blind
With wisdom, they wander till all the years have gone by;
I know, and the curlew and peewit on Echtge of streams.
No boughs have withered because of the wintry wind;
The boughs have withered because I have told them my dreams.
Фазы Луны
Прислушался старик, на мост взойдя.
Бредут они с приятелем на юг
Дорогой трудной. Башмаки в грязи,
Одежда коннемарская в лохмотьях;
Но держат шаг размеренный, как будто
Им путь еще неблизкий до постели,
Хоть поздняя ущербная луна
Уже взошла. Прислушался старик.
Ахерн. Что там за звук?
Робартс. Камышница плеснулась,
А может, выдра прыгнула в ручей.
Мы на мосту, а тень пред нами — башня;
Там свет горит — он до сих пор за чтеньем.
Как все ему подобные, досель
Он находил лишь образы; быть может,
Он поселился здесь за свет свечи
Из башни дальней, где сидел ночами
Платоник Мильтона иль духовидец-принц
У Шелли, — да, за одинокий свет
С гравюры Палмера как образ тайнознанья,
Добытого трудом: он ищет в книгах
То, что ему вовеки не найти.
Ахерн. А почему б тебе, кто все познал,
К нему не постучаться и не бросить
Намек на истину — не больше, чем достанет
Постичь: ему не хватит целой жизни
Чтоб отыскать хоть черствую краюшку
Тех истин, что тебе — как хлеб насущный;
Лишь слово обронить — и снова в путь?
Робартс. Он обо мне писал цветистым слогом,
Что перенял у Пейтера, а после,
Чтоб завершить рассказ, сказал, я умер, -
Вот и останусь мертвым для него.
Ахерн. Так спой еще о лунных превращеньях!
Воистину, твои слова — как песнь:
«Мне пел ее когда-то мой создатель…»
Робартс: Луна проходит двадцать восемь фаз,
От света к тьме и вспять по всем ступеням,
Не менее. Но только двадцать шесть -
Те колыбели, что качают смертных:
Нет жизни ни во тьме, ни в полном свете.
От первого серпа до половины

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
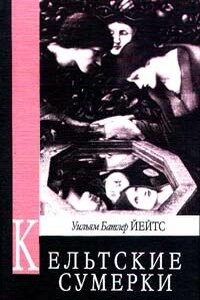
Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) — классик ирландской и английской литературы ХХ века. Впервые выходящий на русском языке том прозы "Кельтские сумерки" включает в себя самое значительное, написанное выдающимся писателем. Издание снабжено подробным культурологическим комментарием и фундаментальной статьей Вадима Михайлина, исследователя современной английской литературы, переводчика и комментатора четырехтомного "Александрийского квартета" Лоренса Даррелла (ИНАПРЕСС 1996 — 97). "Кельтские сумерки" не только собрание увлекательной прозы, но и путеводитель по ирландской истории и мифологии, которые вдохновляли У.

Пьеса повествует о смерти одного из главных героев ирландского эпоса. Сюжет подан, как представление внутри представления. Действие, разворачивающееся в эпоху героев, оказывается обрамлено двумя сценами из современности: стариком, выходящим на сцену в самом начале и дающим наставления по работе со зрительным залом, и уличной труппой из двух музыкантов и певицы, которая воспевает героев ирландского прошлого и сравнивает их с людьми этого, дряхлого века. Пьеса, завершающая цикл посвящённый Кухулину, пронизана тоской по мифологическому прошлому, жившему по другим законам, но бывшему прекрасным не в пример настоящему.

Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) – великий поэт, прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии, отец английского модернизма и его оппонент – называл свое творчество «трагическим», видя его основой «конфликт» и «войну противоположностей», «водоворот горечи» или «жизнь». Пьесы Йейтса зачастую напоминают драмы Блока и Гумилева. Но для русских символистов миф и история были, скорее, материалом для переосмысления и художественной игры, а для Йейтса – вечно живым источником изначального жизненного трагизма.

Эта пьеса погружает нас в атмосферу ирландской мистики. Капитан пиратского корабля Форгэл обладает волшебной арфой, способной погружать людей в грезы и заставлять видеть мир по-другому. Матросы довольны своим капитаном до тех пор, пока всё происходит в соответствии с обычными пиратскими чаяниями – грабёж, женщины и тому подобное. Но Форгэл преследует другие цели. Он хочет найти вечную, высшую, мистическую любовь, которой он не видел на земле. Этот центральный образ, не то одержимого, не то гения, возвышающегося над людьми, пугающего их, но ведущего за собой – оставляет широкое пространство для толкования и заставляет переосмыслить некоторые вещи.

Старик и юноша останавливаются у разрушенного дома. Выясняется, что это отец и сын, а дом когда-то принадлежал матери старика, которая происходила из добропорядочной семьи. Она умерла при родах, а муж её, негодяй и пьяница, был убит, причём убит своим сыном, предстающим перед нами уже стариком. Его мучают воспоминания, образ матери возникает в доме. Всем этим он делится с юношей и поначалу не замечает, как тот пытается убежать с их деньгами. Но между ними начинается драка и Старик убивает своего сына тем же ножом, которым некогда убил и своего отца, завершая некий круг мучающих его воспоминаний и пресекая в сыне то, что было страшного в его отце.