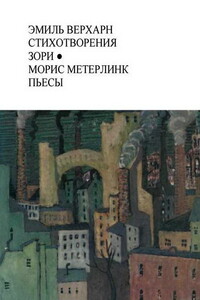Когда вошел в Сикстинскую капеллу
Буонарроти, он
Остановился вдруг, как бы насторожен;
Измерил взглядом выгиб свода,
Шагами — расстояние от входа
До алтаря;
Счел силу золотых лучей,
Что в окна бросила закатная заря;
Подумал, как ему взнуздать коней —
Безумных жеребцов труда и созиданья;
Потом ушел до темноты в Кампанью
[28].
И линии долин и очертанья гор
Игрою контуров его пьянили взор;
Он зорко подмечал в узлистых и тяжелых
Деревьях, бурею сгибаемых в дугу,
Натугу мощных спин и мышцы торсов голых
И рук, что в небеса подъяты на бегу;
И перед ним предстал весь облик человечий —
Покой, движение, желанья, мысли, речи —
В телесных образах стремительных вещей.
Шел в город ночью он в безмолвии полей,
То гордостью, то вновь смятением объятый:
Ибо видения, что встали перед ним,
Текли и реяли — неуловимый дым, —
Бессильные принять недвижный облик статуй.
На следующий день тугая гроздь досад
В нем лопнула, как под звериной лапой
Вдруг лопается виноград;
И он пошел браниться с папой:
Зачем ему,
Ваятелю, расписывать велели
Известку грубую в капелле,
Что вся погружена во тьму?
Она построена нелепо:
В ярчайший день она темнее склепа!
Какой же прок в том может быть,
Чтоб тень расцвечивать и сумрак золотить?
Где для подмостков он достанет лес достойный:
До купола почти как до небес?
Но папа отвечал, бесстрастный и спокойный:
«Я прикажу срубить мой самый лучший лес».
И вышел Анджело и удалился в Рим,
На папу, на весь мир досадою томим,
И чудилось ему, что тень карнизов скрыла
Несчетных недругов, что, чуя торжество,
Глумятся в тишине над сумеречной силой
И над величием художества его;
И бешено неслись в его угрюмой думе
Движенья и прыжки, исполнены безумий.
Когда он вечером прилег, чтобы уснуть,—
Огнем горячечным его пылала грудь;
Дрожал он, как стрела, среди своих терзаний, —
Стрела, которая еще трепещет в ране.
Чтоб растравить тоску, наполнившую дни,
Внимал он горестям и жалобам родни;
Его ужасный мозг весь клокотал пожаром,
Опустошительным, стремительным и ярым.
Но чем сильнее он страдал,
Чем больше горечи он в сердце накоплял,
Чем больше ввысь росла препятствий разных груда,
Что сам он воздвигал, чтоб отдалить миг чуда,
Которым должен был зажечься труд его, —
Тем жарче плавился в его душе смятенной
Металл творенья исступленный,
Чей он носил в себе и страх и торжество.
Был майский день, колокола звонили,
Когда в капеллу Анджело вошел, —
И мозг его весь покорен был силе.
Он замыслы свои в пучки и связки сплел!
Тела точеные сплетеньем масс и линий
Пред ним отчетливо обрисовались ныне.
В капелле высились огромные леса, —
И он бы мог по ним взойти на небеса.
Лучи прозрачные под сводами скользили,
Смыкая линии в волнах искристой пыли.
Вверх Анджело взбежал по зыбким ступеням,
Минуя по три в раз, насторожен и прям.
Из-под ресниц его взвивался новый пламень;
Он щупал пальцами и нежно гладил камень,
Что красотой одеть и славою теперь
Он должен был. Потом спустился снова
И наложил тяжелых два засова
На дверь.
И там он заперся на месяцы, на годы,
Свирепо жаждая замкнуть
От глаз людских своей работы путь;
С зарею он входил под роковые своды,
Ногою твердою пересилив порог;