Стихи в переводе Сергея Торопцева - [2]
И уже на выходе из водоворотов Трех ущелий, в небольшом городке на берегу Реки и произошла у него встреча, на всю оставшуюся земную жизнь определившая миро- и самоощущение молодого поэта. О ней стоит рассказать чуть подробней.
Ли Бо заночевал в городе Цзинчжоу, который в стародавние времена именовался Цзянлином (а в наши времена Ичаном) и был, по преданию, построен в начале тысячелетия, во времена Троецарствия. Фонарщики зажгли огни, и в их слабом мерцании заманчиво-таинственно колыхались слабым ветерком синие флажки питейных заведений, откуда завлекающе помахивали женщины трудноразличимого в полутьме возраста.
Уже приближение к этому городу вызвало необъяснимое волнение. Видимо, сработало высокочувствительное предвидение, улавливающее плывущие из космоса энергетические колебания еще не наступивших событий. Ведь именно к сакральности, к Занебесью и был обращен философский и поэтический взгляд Ли Бо, а земные дела хотя нередко и выходили у него на первый план, но тут же своей мелочной суетностью погружали душу в необъяснимую грусть. А в этих краях все было пропитано Чуской Древностью: Ли Бо вошел на территорию уже не существующего наяву, но нетленного города Ин, столицы царства Чу. Он, конечно, увидел полуразрушенный земляной вал и крепостные рвы чуской столицы — они дошли даже до нас. А археологические раскопки наших дней в гораздо большей степени материализовали все это мистическое вневременье в атрибуты чуской культуры, хранящиеся в городском музее, — меч основателя царства Гоу-цзяня, кусок фрески, тело мужчины тех невообразимо далеких времен, сохранившее человеческие очертания.
Впрочем, вернемся в Цзянлин.
Быть может, на название гостиницы Ли Бо даже не обратил внимания, во всяком случае, среди сохранившихся девяти сотен его стихотворений оно не упоминается, но сегодня в нем видится мистический подтекст — «Сянь кэ лай» (Заходи, святой странник).
Неужели все и в самом деле предопределено?
Как раз в это время из паломнического странствия к святой горе Хэншань возвращался знаменитый даос-отшельник Сыма Чэнчжэнь (вторым именем его было Сыма Цзывэй) — восьмидесятилетний старец, которого еще императрица У Цзэтянь пыталась призвать к себе, как и ныне правивший Сюань-цзун, а предыдущий император, Жуй-цзун, пригласил во дворец и склонился перед ним как пред Учителем, но Сыма Чэнчжэнь всякий раз возвращался в свой скит мудрости. Он, рассказывают, знает все на пять сотен лет назад и видит все на пять сотен лет вперед.
Знаменитый даос вел замкнутый образ жизни и мало кого принимал, но накануне вечером, заметив, что звезда Тайбо в восточной части небосклона обрела пурпурный оттенок, Сыма понял, что наутро к нему на поклон придет Ли Бо, чье второе имя как раз и было созвучно названию звезды Тайбо и одноименной горы, земного аналога небесного тела. Ли Тайбо, утверждает легенда, был не земным человеком, а Небожителем, низвергнутым со звезды Тайбо (а может быть, посланным на Землю с некоей мироустроительной миссией? «Небесные Узоры изрекая, я — странник, чей след пребудет в мире человечьем»,[1] — сказал Ли Бо о себе).
В разговоре с поэтом мудрый старец пророчески сформулировал, что молодой гений сотворен для Неба, а не для Земли: «Ты духом — горний сянь, твой стержень — Дао[3], к Восьми Пределам[4] со святыми вознесешься». И продолжил: «Да на пути государевой службы ждут тебя ямы и рытвины. Ты — как могучая Птица Пэн, коей нужны просторы Неба, а не тесные залы».
Это был явный образ нарисованной еще Чжуан-цзы могучей и неостановимой Птицы Пэн: «Сколько тысяч ли ее спина — неведомо… Распростертые крылья — точно нависшие тучи… Ничто не может ее остановить» (пер. Л.Д.Позднеевой).
Уже много лет, с тех пор как в раннем детстве он открыл книгу удивительных и мудрых притч этого древнего философа, образ надземного существа будоражил душу Ли Бо. Поначалу это было какое-то смутное, неясное, неотчетливое ощущение, но постепенно контуры его обрисовывались все ярче и явственней, и этот невообразимо могучий «птеродактиль» стал недвусмысленной самоидентификацией поэта. В произведениях Ли Бо Великая Птица Пэн — не простое копирование образа древнего философа, а стремительное его развитие. У Чжуан-цзы Пэн опирается на силу попутного ветра, у Ли Бо — дерзновенно и вольно парит в сакральных Небесах над миром, не нуждаясь ни в ком и ни в чем, не зная никаких ограничений своей свободе. «Мой дух исполнен Небом, мой лик очерчен Дао, обуздывать себя мне нужды нет, ни в ком я не нуждаюсь, где появлюсь, там и живу, мне самого себя довольно» — так в одном из эссе очертил поэт свое пребывание в сем мире.
Встреча со старым и мудрым даосом всколыхнула Ли Бо. «Да, он сравнил меня с Птицей Пэн, но он сам — еще более редкостная Птица Сию с вершины святой горы Куньлунь». Глубинно осмысляя этот образ, вечером он велел слуге Даньша растереть тушь, зажечь светильник и написал «Оду Великой Птице Пэн» в жанре ритмической прозы «фу»[5].
Это не просто одно из произведений Ли Бо, но концептуальное, выражающее его мировоззренческие принципы как структурную конструкцию и его жизни, и его поэзии, и потому его стоит привести целиком (с авторским Предисловием) — при всех трудностях восприятия, но во всей его завершенности:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
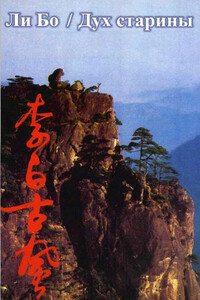
Впервые на русском языке публикуется художественный и подстрочный переводы всех 59 стихотворений, входящих в поэтический цикл великого китайского поэта Ли Бо (VIII в.) «Дух старины», являющихся, по оценке академика В. М. Алексеева, своего рода «историко-литературным манифестом», в котором поэт на материале исторических хроник, мифологических преданий и легенд, а также факторов современной ему социально-политической ситуации в стране излагает свои мировоззренческие, этические и эстетические концепции.Составление, перевод с китайского, комментарии, примечания С.
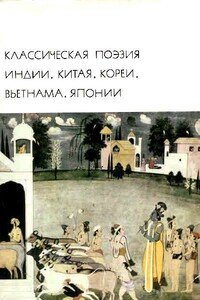
В сборник вошли произведения таких поэтов как: Калидаса, Хала, Амару, Бхартрихари, Джаядева, Тирукурал, Шейх Фарид, Чондидаш, Мира-баи, Мирза Галиб, Цао Чжи, Лю Чжень, Цзо Сы, Шэнь, Юй Синь, Хэ Чжи-чжан, Оуян Сю, Юй Цянь, Линь Хун, Юри-ван, Астролог Юн, Тыго, Кюне, Син Чхун, Чон Со, Пак Иннян, Со Гендок, Хон Сом, Ли Тхэк, Чон Джон, Сон Ин, Пак Ын, Ю.Ынбу, Ли Ханбок, Понним-тэгун, Ким Юги, Ким Суджан, Чо Менни, Нго, Тян Лыу, Виен Тиеу, Фам Нгу Лао, Мак Динь Ти, Тю Дыонг Ань, Ле Тхань Тонг, Нго Ти Лаг, Нгуен Зу, Какиномото Хитамаро, Оттомо Табито, Нукада, Отомо Саканоэ, Каса Канамура, Оно Такамура, Минамото Масадзуми, Фудзивара Окикадзэ, Идзуми Сикибу, Ноин-Хоси, Сагами, Фудзивара Иэцунэ, Сюндо Намики, Фудзивара Тосинари, Минамото Мититомо, Сетэцу, Басе, Ранран, Сампу, Иссе, Тие, Бусон, Кито, Исса, Камо Мабути, Одзава Роан, Рекан, Татибана Акэми и мн.др.
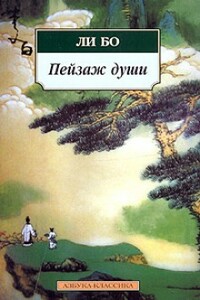
Великого китайского поэта Ли Бо (8 век) принято воспринимать скорее как поэта гражданственных, героико-романтических, возвышенных тональностей. Однако его «мягкая, нежная», по определению видного ученого 12 века Чжу Си, поэзия составляет не менее значительную, хотя и менее изученную часть наследия поэта. Она носит своего рода «дневниковый» характер, выражает прежде всего движения души поэта, и потому гораздо более субъективна, личностна, индивидуальна. Мировоззренчески такая поэзия тяготела к даоско-буддийскому взгляду на мир, отрицающему цивилизацию и воспевающему незамутненную Природу как образец Чистоты внешней и внутренней (душевной)
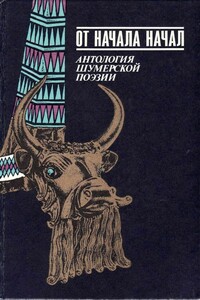
«Древнейшая в мире» — так по праву называют шумерскую литературу: из всех известных ныне литератур она с наибольшей полнотой донесла до нас древнее письменное слово. Более четырех тысяч лет насчитывают записи шумерских преданий, рассказов о подвигах героев, хвалебных гимнов и даже пословиц, притч и поговорок — явление и вовсе уникальное в истории письменности. В настоящем издании впервые на русском языке представлена наиболее полная антология шумерской поэзии, систематизированная по семи разделом: «Устроение мира», «Восславим богов наших», «Любовь богини», «Герои Шумера», «Храмы Шумера.
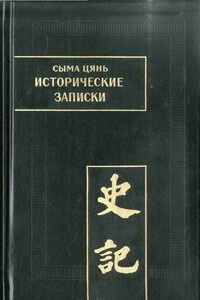
Восьмой том «Исторических записок» продолжает перевод труда древнекитайского историка Сыма Цяня (145-87 гг. до н.э.) на русский язык. Том содержит очередные 25 глав последнего раздела памятника — «Ле чжуань» («Жизнеописания») Главы тома вобрали в себя исторические и этнографические факты, сведения по древнекитайской философии, военному делу, медицине. Через драматические повороты личных судеб персонажей Сыма Цянь сумел дать многомерную картину истории Китая VI—II вв. до н.э.
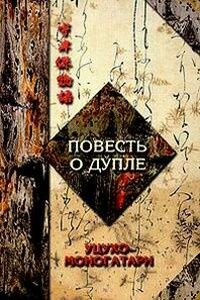
«Повесть о дупле» принадлежит к числу интереснейших произведений средневековой японской литературы эпохи Хэйан (794-1185). Автор ее неизвестен. Считается, что создание повести относится ко второй половине X века. «Повесть о дупле» — произведение крупной формы в двадцати главах, из произведений хэйанской литературы по объему она уступает только «Повести о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»).Сюжет «Повести о дупле» близок к буддийской житийной литературе: это описание жизни бодхисаттвы, возрожденного в Японии, чтобы указать людям Путь спасения.
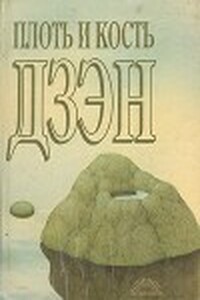
Книга является сборником старинных текстов дзэн-буддизма, повествующих о жизни мирян и монахов древнего Китая и Японии, как воплощения высоких стремлений к нравственному идеалу. Являясь ценным памятником культуры и истории этих стран, открывает истоки их духовного наследия, облегчает понимание характера их народов, способствуя дальнейшему сближения Востока и Запада.
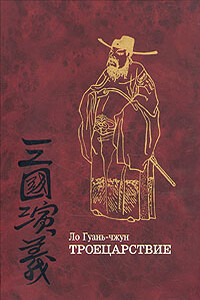
Роман «Троецарствие», написанный в XIV веке, создан на основе летописи и народных сказаний, повествующих о событиях III века, когда Китай распался на три царства, которые вели между собой непрерывные войны. Главные герои романа – богатыри, борцы за справедливость, – до сих пор популярны и любимы не только в Китае, но и в других странах Дальнего Востока.Стихи в обработке И. Миримского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.