Стихи - [3]
Стихи
Немой словно не мой[23]
Сотрясения близ надбровья
Стон стен[24]
Странный сон…скучно скребешь свечу…2 ноября 1877 года
Враг вроде эха — в радость[25]
Прах, пролетая, просел в пах[26]
Надбровье[27]
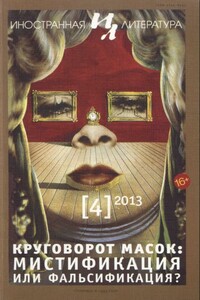
В рубрике «В тени псевдонимов» напечатаны «Жуткие чудо-дети» Линды Квилт.«Сборник „правдивых историй“, — пишет в заметке „От переводчика“ Наталия Васильева, — вышел в свет в 2006 году в одном из ведущих немецких издательств „Ханзер“. Судя по указанию на титульном листе, книга эта — перевод с английского… Книга неизвестной писательницы была хорошо принята в Германии, выдержала второе издание, переведена на испанский, итальянский, французский, португальский и японский языки… На обложке английского издания книги… интригующе значится: „Линда Квилт, при некотором содействии Ханса Магнуса Энценсбергера“».
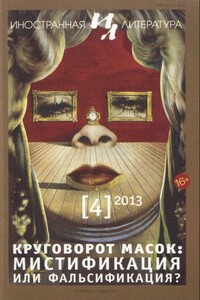
В рубрике «Документальная проза» — «Нат Тейт (1928–1960) — американский художник» известного английского писателя Уильяма Бойда (1952). Несмотря на обильный иллюстративный материал, ссылки на дневники и архивы, упоминание реальных культовых фигур нью-йоркской богемы 1950-х и участие в повествовании таких корифеев как Пикассо и Брак, главного-то героя — Ната Тейта — в природе никогда не существовало: читатель имеет дело с чистой воды мистификацией. Тем не менее, по поддельному жизнеописанию снято три фильма, а картина вымышленного художника два года назад ушла на аукционе Сотбис за круглую сумму.
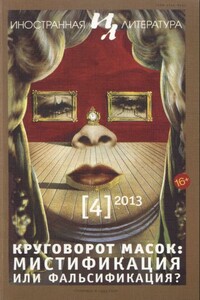
В рубрике «Классики жанра» философ и филолог Елена Халтрин-Халтурина размышляет о личной и литературной судьбе Томаса Чаттертона (1752 – 1770). Исследовательница находит объективные причины для расцвета его мистификаторского «parexcellence» дара: «Импульс к созданию личного мифа был необычайно силен в западноевропейской литературе второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Ярчайшим образом тяга к мифотворчеству воплотилась и в мистификациях Чаттертона – в создании „Роулианского цикла“», будто бы вышедшего из-под пера поэта-монаха Томаса Роули в XV столетии.
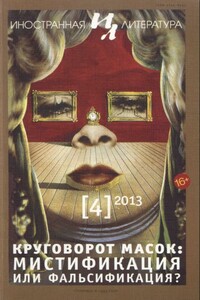
В рубрике «Мемуар» опубликованы фрагменты из «Автобиографии фальсификатора» — книги английского художника и реставратора Эрика Хэбборна (1934–1996), наводнившего музеи с именем и частные коллекции высококлассными подделками итальянских мастеров прошлого. Перед нами довольно стройное оправдание подлога: «… вопреки распространенному убеждению, картина или рисунок быть фальшивыми просто не могут, равно как и любое другое произведение искусства. Рисунок — это рисунок… а фальшивым или ложным может быть только его название — то есть, авторство».