Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? - [102]
Многочисленные интервью с Бибиш демонстрируют, что она точно чувствует регистры, определяющие ее литературную роль, обеспечивающие ее право рассказывать, — «простодушие», «народность» и «инородность». (Любопытно сравнить название, присвоенное первой книге «Бибиш» издательством «Азбука», с англоязычной версией: «The Dancer from Khiva: One Muslim Woman’s Quest for Freedom». Как видим, в случае перевода акцентируются совсем другие смыслы — «поиск свободы» вместо «простодушия».) В рамках этого режима восприятия диплом Института культуры, имеющийся у Бибиш, не умаляет писательской наивности, а язык, приведенный к грамматической норме серьезными редакторскими усилиями, продолжает казаться экзотическим. «Проект „Бибиш“» наглядно показывает, как акцент на стереотипных образах иного, находящегося на границах нормы (будь то норма литературная, языковая или поведенческая), становится одним из самых действенных способов нормализации[449]. «История простодушной» — конечно, результат нормализации, помещения текста в привычный контекст, предполагающий беспристрастное изложение «фактов окружающей действительности». Необходима радикальная перенастройка оптики, чтобы, скажем, увидеть в повествовании Бибиш — о детстве в узбекском кишлаке, об изнасилованиях, учебе, замужестве, гастарбайтерстве — плотную смесь автобиографизма и фантазма и испытать «вместо чаемого катарсиса… эффект психопатологии, душного бреда»[450].
Вообще, метафора патологии, болезни, прямо отсылающая к опытам натуралистической школы, представляется чрезвычайно важной для понимания того, как устроен воображаемый архив «человеческих документов» — текстов, которым мы присваиваем документный статус. «Болезнь» (психическая[451], телесная, социальная) — в каком-то смысле вытесненная, теневая сторона образов наивности и простодушия; это та доля притягательного ужаса, которую читателю позволяет почти неосознанно сохранить нормативная позиция, занятая по отношению к «наивному» тексту. Метафора болезни сигнализирует об уязвимости этой позиции, ненадежности нормы — норма в любой момент может быть разрушена внутренней или внешней патологией.
Публикации Александры Чистяковой, Рубена Гонсалеса Гальего, Бибиш — в силу разных обстоятельств — представляют собой тексты, уже адаптированные (в отличие от тетрадок Евгении Киселевой) к соответствующим нормам. Они не обладают некими объективными свойствами человеческого документа (таких онтологически заданных свойств, разумеется, и не существует) — литературному сообществу по каким-то причинам важно прочесть их в этом качестве.
Проблема, требующая здесь решения, конечно, заключается вовсе не в том, насколько наивны эти тексты и имеют ли они эстетическую ценность, а в том, какие болезни мы на самом деле видим и подразумеваем, когда говорим, что человеческий документ правдиво «отражает жизнь», какие патологии суждения о литературе (и собственно института критики) при этом обнаруживаем. Повышенный интерес к текстам, которые, по признанию одного из процитированных выше рецензентов, «лежат вне поля критики», настойчивое противопоставление этих текстов обычной («грешащей архаичностью») литературе, — недвусмысленное свидетельство, во-первых, проблематичного статуса литературности, а во-вторых, кардинального сбоя механизмов критической рецепции. Другими словами, литературный текст оказывается центром нарушенной коммуникации: существующие навыки его прочтения «не работают», не приводят к желаемому эффекту — к возможности испытать непосредственную читательскую реакцию, «включиться в текст», «соотнестись с ним». Возникающее чувство, что литературное произведение герметично, закрыто от критика, что его «непонятно, как читать», может компенсироваться привычным объяснением — литература недостаточно хорошо «отражает» реальность («не показывает» актуальных проблем, не создает узнаваемые социальные типажи, говорит на архаичном языке etc.).
Таким образом, за миссией восстановления утраченных связей с реальным, которая вменяется в этих обстоятельствах документу, в действительности стоит совсем иная задача — вновь сделать читательский опыт осмысленным. Рамки «человеческого документа» в этом случае лишь на довольно поверхностных, формальных уровнях удостоверяют «правдивость» нарратива, «реальность» описываемых событий. Информация о том, что какие-то из этих событий вымышлены, вряд ли приведет к кардинальным изменениям читательских реакций. Гораздо более важная функция документа тут — удостоверение смысла: в ситуации утраченных ориентиров статус документа гарантирует, что данный текст обязателен к прочтению. Парадоксальным (лишь на первый взгляд) образом обнаруживаемые внутри нарратива признаки бессмысленности («эстетики абсурда», «душного бреда») могут еще более упрочить ощущение осмысленности своей читательской роли: будучи восприняты в модусе шокирующего чтения (когда «прочитанное не укладывается в голове»), они, безусловно, поддерживают эффект наконец-то оказываемого текстом воздействия, а значит, и наконец-то найденного смысла.
Противоречивые манипуляции с «человеческим документом» — он помещается в самый эпицентр литературных иерархий как будто бы специально затем, чтобы можно было декларировать абсолютную неприменимость к нему эстетических оценок, — действительно активизируют голос читательской совести и сознания: чувство вины становится, пожалуй, ключевой эмоцией, позволяющей здесь заново обрести утраченную (утратившую смысл) роль читателя. Сегодняшнее критическое сообщество предлагает весьма специфический вариант описанной Козловой и Сандомирской позиции стыдящегося интеллигента: из приведенных выше отзывов на тексты Чистяковой, Гонсалеса Гальего, Бибиш хорошо видно, что вина проецируется не столько на область социальных проблем, сколько непосредственно на пространство литературы — именно и прежде всего с литературностью рецензенты связывают целый комплекс (само)обвинительных характеристик (профессиональные читатели не просто отвергают свою «жеманную», «виртуальную», «придуманную» литературу, но и явно стыдятся того эскапистского и эстетизированного опыта, на который она их, как им кажется, обрекает).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

В книге Ирины Каспэ на очень разном материале исследуются «рубежные», «предельные» смыслы и ценности культуры последних десятилетий социализма (1950–1980-е гг.). Речь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Предметом рассмотрения становятся научно-фантастические тексты, мелодраматические фильмы, журнальная публицистика, мемориальные нарративы и «места памяти» и другие городские публичные практики, так или иначе работающие с экзистенциальной проблематикой.
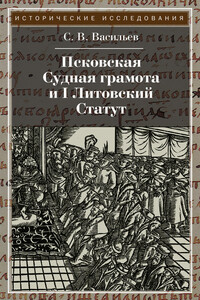
Для истории русского права особое значение имеет Псковская Судная грамота – памятник XIV-XV вв., в котором отразились черты раннесредневекового общинного строя и новации, связанные с развитием феодальных отношений. Прямая наследница Русской Правды, впитавшая элементы обычного права, она – благодарнейшее поле для исследования развития восточно-русского права. Грамота могла служить источником для Судебника 1497 г. и повлиять на последующее законодательство допетровской России. Не менее важен I Литовский Статут 1529 г., отразивший эволюцию западнорусского права XIV – начала XVI в.
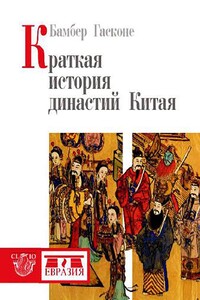
Гасконе Бамбер. Краткая история династий Китая. / Пер. с англ, под ред. Кия Е. А. — СПб.: Евразия, 2009. — 336 с. Протяженная граница, давние торговые, экономические, политические и культурные связи способствовали тому, что интерес к Китаю со стороны России всегда был высоким. Предлагаемая вниманию читателя книга в доступной и популярной форме рассказывает об основных династиях Китая времен империй. Не углубляясь в детали и тонкости автор повествует о возникновении китайской цивилизации, об основных исторических событиях, приводивших к взлету и падению китайских империй, об участвовавших в этих событиях людях - политических деятелях или простых жителях Поднебесной, о некоторых выдающихся произведениях искусства и литературы. Первая публикация в Великобритании — Jonathan Саре; первая публикация издания в Великобритании этого дополненного издания—Robinson, an imprint of Constable & Robinson Ltd.

Книга посвящена более чем столетней (1750–1870-е) истории региона в центре Индии в период радикальных перемен – от первых контактов европейцев с Нагпурским княжеством до включения его в состав Британской империи. Процесс политико-экономического укрепления пришельцев и внедрения чужеземной культуры рассматривается через категорию материальности. В фокусе исследования хлопок – один из главных сельскохозяйственных продуктов этого района и одновременно важный колониальный товар эпохи промышленной революции.
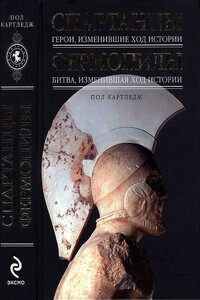
Спартанцы были уникальным в истории военизированным обществом граждан-воинов и прославились своим чувством долга, готовностью к самопожертвованию и исключительной стойкостью в бою. Их отвага и немногословность сделали их героями бессмертных преданий. В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время.
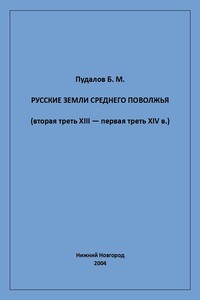
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.
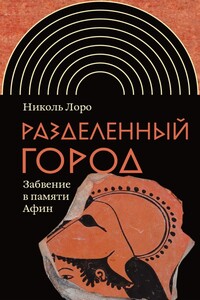
В 403 году до н. э. завершился непродолжительный, но кровавый период истории Древних Афин: войско изгнанников-демократов положило конец правлению «тридцати тиранов». Победители могли насладиться местью, но вместо этого афинские граждане – вероятно, впервые в истории – пришли к решению об амнистии. Враждующие стороны поклялись «не припоминать злосчастья прошлого» – забыть о гражданской войне (stásis) и связанных с ней бесчинствах. Но можно ли окончательно стереть stásis из памяти и перевернуть страницу? Что если сознательный акт политического забвения запускает процесс, аналогичный фрейдовскому вытеснению? Николь Лоро скрупулезно изучает следы этого процесса, привлекая широкий арсенал античных источников и современный аналитический инструментарий.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.