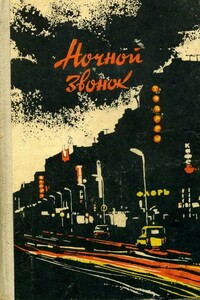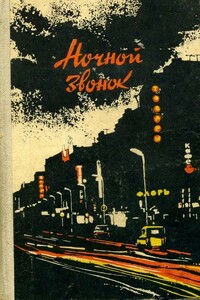— …Ты только погляди на них, — говорил между тем с явно нарочитым, насмешливым удивлением Василий, — старухи запили. А во начну считать, кто у нас пьет… Тетка Аграфена — раз…
— Тьфу ей, — буркнула баба Катя. — Вчерась валялась у лавки: хоть бы до избы добрела.
— …Тараканиха, — продолжал свой счет Соломатин.
— Тараканиха-то молодец; — тихо сказала баба Валя. — Дом в порядке содержит, хоть и пьет. Я к ней вчера дотащилась, посидели.
— Водку пили? — взвился Василий.
— Бутылочку раздавили, — прикрыв глаза, но правдиво ответила баба Валя. И это «раздавили» как-то так не шло ей, что даже Соломатин нехорошо сощурился, и воздух вытолкнул из себя это слово, оно покружилось по комнате — и со стыдом вылетело в окно. Василий откашлялся:
— Баба Настя…
Тут все трое помолчал, осмысливая что-то в себе. Потом баба Катя пристукнула клюкой, но скорее с недоумением, чем с гневом:
— Чего кто знает о Николе-то?..
— Я в окно заглянул — из-под стола ноги торчат, — сказал Василий. Помолчав, вполне серьезно и раздумчиво добавил. — Убей, не пойму: на какой это почве они сошлися? Кольке — сорок лет, бабе Насте — семьдесят шесть… А ведь живут?.. А?
— Опять, — подтвердила баба Катя с оживлением. — Прасковья Дедкова их застукала.
— И неужели получается?.. — сделал ерническим свое все в серых комочках, красных жилках, рыжих волосинах, странно тем не менее моложавое лицо Соломатин. — Чего я вам скажу, бабки… — таинственно снизил он голос, значительно помолчал, и весело закончил. — А не попробовать ли и вам?!
— Провались, дьявол! — вскочила баба Катя.
— Успокойся, Васенька… — в горле бабы Вали булькнул было смех, но она зажала его и с трудом проглотила слюну.
Но так как Василий был по натуре своей бескорыстен и всегда готов им услужить, только его позови, коли что, — то сердиться на него и бабе Кате не было резону. И она уже вполне спокойно села, точно этот ее вскок был лишь данью приличию, так сказать, симуляцией гнева.
За окном дома бабы Вали, выходившем на огород, в свете августовского вечера чудно взблескивало жнивье: та часть большой усадьбы, которую она засевала житом, теперь уже прибранным. Дальшее шла небольшая луговина, полого сбегавшая к ручью, над которым стояла банька: такая старая, топившаяся по-черному, что и была она насквозь черной. Все трое, подчинив глаза неровно-прихотливой игре солнца, смотрели в окно: баба Катя, налегая на свою клюку, с привычным выражением хитрого упрямства и застарелой, какой-то жесткой тоски; баба Валя, отдыхая сейчас и облегченно дыша — была не одна, и это давало временный покой и ощущение легкой, раздвигающей тесный мир привычного безопасности, — думала о том, что топка в баньке развалилась и надо бы по-просить Василия подправить. Соломатину же было мало выпитой водки и он, морща лоб и слыша хрипловатое дыхание бабок с обоих боков, и смотрел, и думал, как выцыганить у старух на бутылку, а еще лучше подвести дело к тому, чтобы сами поставили…
Тут баба Валя и решилась:
— Васенька, ты б глянул топку в бане? Там делов немного, а мне самой не сладить. А я б бутылочку тебе…
Василию сразу стало легко и весело:
— Так, может, я счас и займуся? А что — делать сегодня все равно нечего: пойду. Баба Катя, а ты топай в лавку! Часа за полтора управлюсь — я твою топку знаю, — потом опять сядем, а, бабки?!
Баба Катя, суетливо оживляясь, уже подымалась. Баба Валя тоже была довольна: и вечером не одна. Василий, отлично понимая их, захохотал раскатисто, свободно, давая выход своему откровенному удовольствию:
— Запили старухи, запили!