Станция Мортуис - [9]
Непросто, за исключением наиболее ясных случаев, раз и навсегда определить, что такое Хорошо, а что такое Плохо. Стоит ли доказывать, что разные отрезки отечественной истории - отнюдь не моральные константы из популярных детских стишков Владимира Маяковского, жил когда-то на заре советской эпохи такой мощный, а ныне полузабытый поэт. Сравнить хотя бы времена отцовские с моими, неизменные атрибуты Тех лет - с неизменными атрибутами Этих. С одной стороны Те времена были плохими, мрачными, беспощадными. Всего хватало - голода, разрухи, предательств. Как ураган уносит пылинки, так унесла война миллионы человеческих жизней, да и произвол уничтожил столько людей, сколько не погибает в иной крупной войне. Но с другой стороны, во многих и многих чистых и честных, пусть и наивных, душах горел святой огонь правоты и справедливости, жила искренняя и непоколебимая вера в то, что грядущее общечеловеческое счастье можно приобрести лишь за счет текущих временных лишений, и она, эта искренняя вера, помогала переносить и бедность, и эзопов язык официальной пропаганды, и вражеские пули, и даже лагеря. К сорок пятому году вроде стало очевидно, что терпели не зря. Капитальное здание высокомерного и тупого насилия, казалось уже возведенное уверенными в своем расовом превосходстве нацистскими правителями, пало под победоносными ударами Новой Эпохи, избравшей мерилом человеческого достойства не деньги, не вещи которые можно приобрести за эти деньги, и даже не семейное благополучие, а желание и умение честно трудиться на народное благо. Мне, человеку получившему первые жизненные уроки в условиях относительного комфорта и иной повседневности, жизнь в том мире, мире отцовской весны, могла бы показаться невыносимой, но смею отсюда, Из Под Земли, утверждать, что и ему, - иногда по крайней мере, - казалась невыносимой новая жизнь, постепенно вытеснявшая былую и походя срывавшая с нее фиговый листок официозного благочестия и политической сверхлояльности. И пусть этот фиговый листок скрывал собой не только ханжество предпринимателей, но и смелость первопроходцев, каково было ему привыкать к мысли, что жизнь, может быть, развивается не по самым справедливым на земле канонам. В сущности, с годами в памяти стерлись многие важные детали; выражение его лица при тех или иных обстоятельствах, слова произнесенные им в связи с теми или иными событиями, но смерть, как водится, все расставила на свои места, провела контрастные грани между светом и тенью. Помню, как в начале шестидесятых наша семья получила квартиру на первом этаже нового дома и, среди прочих новоселов, была осчастливлена соседством с некоторыми высокопоставленными особами той поры. Это были люди особого разлива, для них, похоже, существовали только свои. Их образ жизни отличался от образа жизни простых смертных, они и не особенно скрывали это, да и зачем было скрывать, разве стоило бы тогда становиться высокопоставленным? Вспоминаю, лифт то и дело портился, и тогда шофера их персональных государственных автомобилей, все красные от натуги, таскали на верхние этажи ящики с особенным, "правительственным" лимонадом, и, заставая их за этим невинным занятием, отец становился мрачен и с каким-то усталым презреньем, будто сплевывая, произносил два слова: "Красные князья". И хотя я, по малости лет, еще ничего не понимал, но по тону, по выражению отцовского голоса чувствовал, что два этих слова, Красные и Князья, не должны стоять вместе, но они вместе, и это как бы осень наступившая после зимы, осень оттершая весну из очереди плечом. Я был обычным первоклашкой, но мне уже тогда было видно, каких трудов стоило ему примириться с этим, как он сочувствовал этим шоферам, вполне, впрочем, довольными, - на первый хотя бы взгляд, - своей судьбой. Отца многие считали неудачником, неумелым человеком. Он и хороших отношений с начальством не признавал, если только не считал начальника порядочным во всех отношениях человеком, и докторскую защитил лишь незадолго до кончины, хотя долгое время заведовал в институте отделом, в котором, как говорили, делалось дело, и в партию, когда в нее ради карьеры и пускали и просили, так и не вступил, и денег не заработал - ну, к чему были лишние деньги состоявшемуся в жизни интеллигенту, коли, благодаря передовому общественному строю, его семье на пропитание, да на сочинские пляжи, вполне хватало. Если бы не некоторое количество старых и, в общем, верных друзей, да еще жены и единственного сына, да еще своей любимой лаборатории, жизнь его можно было посчитать прескверной. Но ведь перечисленного, как не посмеивались бы скептики, вполне достаточно для гармоничного существования, и я думаю, что кабы не инфаркт бесшумно прокравшийся к нему в ночь с субботы на воскресение, он дожил бы даже до тех регалий, к которым не стремился никогда.
Ну а мне пришлось жить и действовать в иное время. Если на минуту отбросить все и ныне проходящее по графе "Положительные результаты": - Ликбез, Победу, Космос, и признать, что отцовское время было вотчиной людей предпочитавших наган конституции, приказ сверху - уголовному кодексу, а уголовный кодекс - полету творческой мысли; если напомнить себе ту непреложную истину, что многих и многих упорное стремление отстоять свое человеческое достойнство логическим образом привело к могильной тишине, или, в лучшем случае, к пожизненному безмолвию, то отрицательное моего времени принимало образ дорвавшихся до власти людей, предпочитавших всему на свете поднесенный на кухню вспотевшим от натуги шофером ящик с бутылками лимонада элитарного розлива. Можно было быть обо мне любого мнения, в том числе и дурного, ибо чего скрывать - за мной тоже числились кое-какие грешки, но в одном, - в прочной, искренней, засевшей где-то в области позвоночника неприязни к "красным князьям" отказать мне никак было нельзя. Причем, в своей к ним неприязни я был довольно-таки непоследователен. В юности - благодаря тому, что среди моих товарищей было не так уж мало выходцев из номенклатурной среды, - мне доставляли большое удовольствие случайные, но не столь уж и редкие беседы с их родителями, "красными князьями" и "князьками" по существу. Более того, именно посредством таких, всегда выходящих за официальные рамки бесед старших с младшими, я приобщался к политической жизни, к тому круговороту бестелесных слухов, к той веренице бесплотных сплетен, которые так же необходимы будущему государственному деятелю, как арифметика великому математику. Я был достаточно прилично воспитан для того, чтобы выказывать тому или другому красному графу или барону приличествующие его возрасту и положению знаки почтения, но в своем кругу, среди сверстников и друзей, для характеристики "княжеской" прослойки общества я находил немало резких, а порой даже грубых слов. Конечно же, все это смахивало на лицемерие, и я понимал, что веду себя не очень-то порядочно. Но мне легче было считать себя хитроумным и в меру двоедушным борцом за справедливость, нежели отказываться от принципов и убеждений. Я полагал, и, как мне кажется, не без оснований, что за социализм "красные князья" только на словах, в силу занимаемого ими служебного положения и узурпированной ими власти, а дела у них сильно расходятся со словами. Моя Юность не могла простить им столь чудовищного предательства, ведь своим поведением они подводили не только и не столько меня, сколько весь наш многострадальный народ, бесстыдно обмановали его. Ныне, находясь в деревянном гробу под могильной плитой, я меньше всего намерен обвинять. Я и сам вкусил от сочного древа власти, теперь-то я сознаю, что был тогда слишком молод и горяч, что наклеивать на людей ярлыки безответственно и порой преступно, что требовать высокой ответственности от других проще всего, что и среди "красных князей" попадались различные люди, добрые и злые, честные и не имевшие представления о чести, да и были они, в конечном счете, обычными людьми, обычными отцами и мужьями, питавшими определенные слабости к своим детям и женам, и готовыми претерпеть ради благополучия своих близких множество гражданских и нравственных испытаний. Но я был горяч и молод, и потому полностью отрицал право "красных князей" на приспособленчество, коль скоро это им, а не мне, или кому-нибудь другому, выпало стоять у штурвала. Очень многие последующие компромиссы на моем пути, компромиссы из тех, что щепетильный человек мог бы назвать просто низостью, объясняются как раз впитанным в детстве и ранней юности стремлением как можно сильнее насолить "красным князьям". Должен заметить, что по складу характера я меньше всего был человеком, склонным останавливаться на полпути. Могло быть все: глубокие отступления, кажущийся отказ от достижения цели, но она, эта цель, продолжала существовать, она просто загонялась в закоулки сознания, именно сознания, и в надлежащий, благоприятный момент извлекалась из него на божий свет. Впрочем, о своем отношении к Цели мне уже приходилось вспоминать. И вот где-то в пределах третьего десятилетия жизни в моем сознании начала выкристаллизовываться мысль, что без Власти навредить приспособленцам невозможно, что подвести может именно недостаток легитимно признанного влияния, и если действительно хочешь влиять на события, то отношения следует налаживать с самыми разнообразными людьми. К этой мысли я пришел частично под впечатлением совершенного мной уголовного преступления. К счастью, мне так и не было суждено попасть на скамью подсудимых, понести заслуженное наказание и, таким образом, преждевременно завершить еще не начавшуюся общественную и политическую деятельность. И на этом важнейшем в моей жизни событии память останавливается более подробно.

Есть места на планете, которые являются символами неумолимости злого рока. Одним из таких мест стала Катынь. Гибель самолета Президента Польши сделала это и без того мрачное место просто незаживающей раной и России и Польши. Сон, который лег в первоначальную основу сюжета книги, приснился мне еще до трагедии с польским самолетом. Я работал тогда в правительстве Президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова министром и страшно боялся опоздать на его самолет, отправляясь в деловые поездки. Но основной целью написания романа стала идея посмотреть на ситуацию, которую описывалась в фильмах братьев Вачовских о «Матрице».

«…Половина бойцов осталась у ограды лежать. Лёгкие времянки полыхали, швыряя горстями искры – много домашней птицы погибло в огне, а скотина – вся.В перерыве между атаками ватаман приказал отходить к берегу, бежать на Ковчег. Тогда-то вода реки забурлила – толстые чёрные хлысты хватали за ноги, утаскивали в глубину, разбивали лодки…».
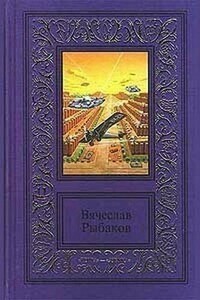
Гротескный рассказ в жанре альтернативной истории о том, каким замечательным могло бы стать советское общество, если бы Сталин и прочие бандиты были замечательными гуманистами и мудрейшими руководителями, и о том, как несбыточна такая мечта; о том, каким колоссальным творческим потенциалом обладала поначалу коммунистическая утопия, и как понапрасну он был растрачен.© Вячеслав Рыбаков.

Продолжение серии «Один из»… 2060 год. Путешествие в далекий космос и попытка отыграть «потерянное столетие» на Земле.
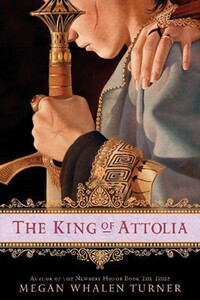
Вор Эддиса, мастер кражи и интриги, стал царем Аттолии. Евгенидис, желавший обладать царицей, но не короной, чувствует себя загнанным в ловушку. По одному ему известным причинам он вовлекает молодого гвардейца Костиса в центр политического водоворота. Костис понимает, что он стал жертвой царского каприза, но постепенно его презрение к царю сменяется невольным уважением. Постепенно придворные Аттолии начинают понимать, в какую опасную и сложную интригу втянуты все они. Третья книга Меган Уолен Тернер, автора подростковой фэнтэзи, из серии «Царский Вор». .

Что, если бы великий поэт Джордж Гордон Байрон написал роман "Вечерняя земля"? Что, если бы рукопись попала к его дочери Аде (автору первой в истории компьютерной программы — для аналитической машины Бэббиджа) и та, прежде чем уничтожить рукопись по требованию опасающейся скандала матери, зашифровала бы текст, снабдив его комментариями, в расчете на грядущие поколения? Что, если бы послание Ады достигло адресата уже в наше время и над его расшифровкой бились бы создатель сайта "Женщины-ученые", ее подруга-математик и отец — знаменитый кинорежиссер, в прошлом филолог и специалист по Байрону, вынужденный в свое время покинуть США, так же как Байрон — Англию?