Стакан воды - [25]
— Вы ничего не понимаете! — упрямо сказал он, намазывая обожжённые пальцы маслом. — Это типичный шахтёр!
—Бросьте. Я только что из Донбасса, — досадливо махнула рукой Катя. — Возможно, я и не понимаю в скульптурах, но на шахтах я бываю минимум три месяца в году. Шахтёры очень изменились, Федор Павлович... Кстати сказать, даже внешне...
— Знаю, знаю, — иронически усмехнулся Баклажанский. — Не читайте мне политграмоту, пожалуйста, я её знаю.
—Нет, вы не знаете! — резко оборвала его Катя. — Вы ничего не знаете! Вы не знаете, что теперь в шахтах нужны не только мускулы, но и интеллект, знания! Я сама слышала в Донбассе, как молодой шахтёр, попавший на современную механизированную шахту, с грустью заявил, что ему кажется — он ещё недостаточно образован, чтоб работать на этой шахте. Слышите: Шахтёр недостаточно образован! Да, люди очень изменились, Федор Павлович, а вы... — она на секунду остановилась. — А вы, извините за каламбур, все дурака ваяете!
— Прикажете понимать, что я халтурщик? — уже с горечью, большей чем от обыкновенной обиды, осведомился Баклажанский. — Умышленный халтурщик? Да?
— Нет, не халтурщик, — спокойно возразила Катя, — но вы так торопитесь всех обогнать, что не заметили, как отстали.
— Я отстал?! — Баклажанский почти задохнулся от возмущения.
—Да! Да! Да! — тоже повысила голос Катя. — Какой смысл в том, что вы бежите быстрее всех, если вы бежите в другую сторону? — Катя разволновалась и уже не пыталась сдерживаться. — Вы не смеете так жить! — бледнея от гнева, крикнула она.
— Вы не понимаете, насколько это время трудно для художника! — запротестовал Баклажанский. —- Даже гигант Маяковский это понимал. Он сказал: «Это время трудновато для пера...» Трудное время...
— Да, трудное время! — с горячностью подхватила Катя. — Так не старайтесь легко прожить в это время! У нас в войну жил в квартире один жулик, заведующий магазином. Он как-то преподнёс жене такой афоризм: «Нет ничего легче, как жить в трудное время!..» Он ещё был на свободе тогда. А вы что, хотите прожить под этим девизом? Может быть, это и возможно, да только стоит ли? Вот, кстати, — сердито усмехнулась Катя, — ваша модель идёт сюда...
Пров появился действительно кстати, как аргумент в споре. Баклажанский даже вздрогнул. Между тем в появлении Прова не было ничего мистического. Его
приход был вызван самыми земными и даже низменными причинами — ему не хватило на пол-литра. Рассматривая скульптора как постоянную материальную базу, Пров прежде всего устремился к нему.
— Что вам угодно, Пров? — сухо спросил Федор Павлович.
Но Пров находился в таком состоянии подпития, когда онемевшие губы деформируют согласные буквы, утраивают шипящие, а гласными вообще величественно пренебрегают.
Он пошлёпал губами и произвёл неясное шипение.
— Что? — нетерпеливо переспросил Баклажанский.
— Дессь... — с трудом просвистел Пров. — Дессятщку!
— По-моему, он просит десятку, — перевела Катя. — Десять рублей.
Пров качнулся всем телом, подтверждая её правоту. Даже и в этом состоянии он не отступал от таксы.
— За что? — удивился скульптор. — С какой стати?
— Аванссс... В сшшет будушщш... — зашуршал Пров.
— Нет, — сказал Баклажанский, — не дам. Во-первых, у нас оплата после сеанса, а во-вторых, может быть, я вообще вас больше не буду лепить.
— Как так не будете? — неожиданно членораздельно спросил Пров. Возможность потери дополнительного заработка, видимо, на секунду протрезвила его. —
А как же без меня? Невозможная вещщщь... Я ведь весе могу! Хотите ущщеным, хотите ещще как!..
— Хорошо, хорошо! Нате! — досадливо отмахнулся скульптор и сунул Прову купюру.
— Сспасси! — свистнул Пров, с трудом переставляя свои глиняные ноги.
Все было безнадёжно испорчено: и обед, и спор об искусстве, и объяснение...
«Боже мой! Объяснение! — Баклажанский посмотрел на Катю и вдруг со всей очевидностью осознал нелепость происшедшего. Главное он испортил сам, своей глупой запальчивостью, своей обидчивостью, своим несговорчивым нравом. Ведь именно за обедом он собирался окончательно предложить Кате руку и сердце, а вместо этого... Нет, сейчас же, немедленно надо все исправить...»
— Катя, — вдруг сказал он. — Будьте моей женой!
— Что? — Катя даже не поняла. — Что вы сказали?
У Баклажанского вдруг пропала смелость.
— Женой будьте... — несколько тупо повторил он. — Моей. Пожалуйста...
Катя посмотрела на него с нежным сочувствием.
— Вот вы опять торопитесь... Спасибо, но я... Я не могу...
— Почему? — взволновался Баклажанский. — Нет, послушайте, так нельзя!
— Как же мы можем пожениться, — печально улыбнулась Катя, — вы видите, у нас уже до свадьбы семейные ссоры...
— Забудьте! Это не имеет значения... В конце концов пусть вам не нравятся мои скульптуры. Я согласен!
— Я не согласна, — сказала Катя.
— Глупости! Глупости! Вы же выходите замуж за меня, а не за мои скульптуры.
—Нельзя отделить человека от его дела, — мягко сказала Катя. Теперь она отчётливо поняла, что мешало ей до сих пор, почему она все время бессознательно уходила от этого объяснения. — Хорошо, предположим, я вас... смогу полюбить, — продолжала она. — Полюбить, допустим, за то, что вы красивый, весёлый, ну, вообще за то, что вы — это вы... А за что я буду вас уважать?

Отправившись в одну из горных республик собирать фольклор, герой фильма Шурик влюбляется в симпатичную девушку — «спортсменку, отличницу, и просто красавицу». Но ее неожиданно похищают, чтобы насильно выдать замуж.Наивный Шурик не сразу смог сообразить, что творится у него под носом, — однако затем отважно ринулся освобождать «Кавказскую пленницу»…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
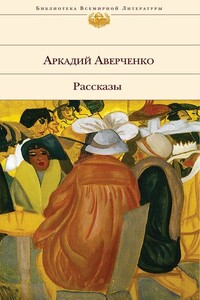
«… – Вот, Жоржик, – сказал Балтахин. – Мы сейчас беседовали с Леной. Она говорит, что я ревнив, а я утверждаю, что не ревнив. Представьте, ее не переспоришь.– Ай-я-яй, – покачал головой Жоржик. – Как же это так, Елена Ивановна? Неужели вас не переспорить? …».
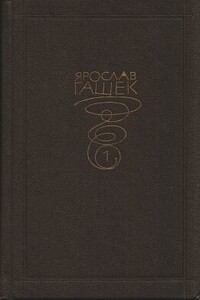
Однажды у патера Иордана появилась замечательная трубка, похожая на башню замка. С тех пор спокойная жизнь в монастыре закончилась, вся монастырская братия спорила об устройстве удивительной трубки, а настоятель решил обязательно заполучить ее в свою коллекцию…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
