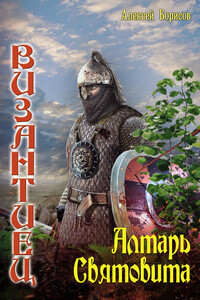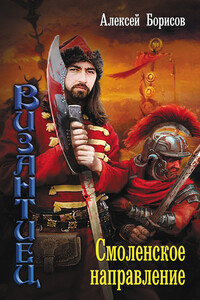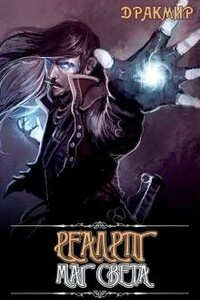* * *
Спустя пару дней разнообразные мелкие события немного сгладили гнетущие впечатления, но вовсе забыть о событиях в Кале – нечего было и надеяться. Кое-что, безусловно, удалось, но и те неудачи, которые омрачили общий фон, отнюдь не выглядели поражением. Маленький язычок огня лизал последние дрова в камине, разожженном, чтобы нагреть воздух в комнате, которая успела выстудиться после проветривания. Он уже превратил в еле заметную горстку пылающей золы некогда толстые ветки высохшей груши, а вожделенного тепла все не наступало. Чем дальше мы отъезжали от побережья, тем становилось холодней. Я еще раз погрузил руки в кружева, вышедшие из ателье мадам Ла Перрьер в Алансоне. Того самого, сожженного пьяными революционерами в безумстве вседозволенности. Очень необычные узоры, как для меня, – так музейная ценность, а, по словам Полины, не имеющие цены, – настолько они были прекрасны. Многие были не толще паутины, а некоторые буквально плыли по воздуху, стоило их приподнять. Настоящее алансонское кружево прошлого века. Если кому-либо посчастливится найти его и подержать в руках, это ощущение запомнится на всю жизнь. Можно смотреть в упор и в какой-то момент понять необходимость иметь увеличительное стекло, чтобы проследить весь ход нити[95]. Невозможно представить, сколько нужно сделать движений пальцами, сколько стежков: прямых, обратных и повторных, чтобы появилась лишь малая часть узора – изогнутый лепесток или шип розы. Это впечатляет сильнее, чем фламандская живопись и камерная музыка вместе взятые, это из эпохи чистых душ, эфемерного существования, а не машинной работы. Это не труд, а состояние души эпохи домотканого полотна, теплых масляных светильников и грубых, неотесанных лавок – это превыше всякой бумажной ценности с водяными знаками. Когда трогаешь это кружево кончиками пальцев, рассматриваешь сквозь лупу, начинаешь ощущать, как велико было терпение девочек-мастериц. Становится слышен шорох нитей, сопровождающий их работу иголками, так похожий на шепот падающей листвы. И если прислушаться, то можно узнать историю, осязаемую, конечно. Кружево расскажет об исколотых пальцах и ноющих от боли спинах, о сиянии в глазах, которые они себе портили, чтобы создавать эти чудеса, поведает о нежности человеческих тел, о страстной любви сельских девочек к платьям придворных дам, которые они никогда не наденут. Алансонское чудо – это гордость, вплетенная в ткань их крошечными пальчиками, а гордости не нужно сострадания. Гордостью можно только восхищаться. Я разложил кружева на листах бумаги и стал сортировать их, складывая в сундук. Вот уже почти час, вынимая, раскладывая и разглядывая, я трогаю их и думаю, что с ними сделать? Но с ними уже ничего не сделаешь. Это эксклюзив, который уже никогда не будет воссоздан. Так устроена жизнь. А жизнь человеческая – это не мечта, не сон или греза, не страсть к испытанию наслаждения и блаженства. Она великий дар провидения. И если вовремя не почувствовать это, то, ухватившись за этот дар, как за игрушку, игрушечную жизнь и получишь, без тяжкого страдальческого креста, и, как следствие, без награды. Лишь набравшись жизненного опыта, можно осознать, что дар этот стоит принимать с покорностью, даже с трепетом, ибо это есть драгоценный залог, который когда-нибудь придется возвратить в чистоте и целостности с чувством исполненного долга. Ведь как выразить человеческое достоинство, как понять, что сила заключается в слабости, величие – в ничтожности, а бесконечность – в ограниченности? Только принимая законы вечной премудрости.
И если тебе препятствуют, то обрати свой взор в небо, вспомни, кто тебе дорог, возьми в руки меч и своей волей и делом доказывай всю правоту мироздания. Наверно, для меня именно в этом смысл среза времени.