Спонтанность сознания - [5]
Расширение горизонта незнания всегда было одновременно и расширением, и углублением интеллектуального поиска. Непрерывно нарастающее незнание породило за последние столетия тот динамизм западной культуры, которого не было в прошлых культурах Востока, успокоенных, в значительной степени, на достигнутом ими знании.
В наших последних работах мы становимся на рискованный путь, пытаясь возродить метафизическую философию, растворившуюся, говоря словами Хайдеггера, в технологизированной науке.
Хайдеггер [Heidegger, 1972] подчеркивал метафизический характер классической философии:
Философия есть метафизика. Метафизика рассматривает существующее — мир, человека, Бога — как целое по отношению к Бытию, по отношению к сопричастностиВ существ в Бытии (с. 55—56). И говорит о ее конце:
Философия становится эмпирической наукой о человеке, обо всем том, что может стать экспериментальным объектом его технологии для блага человека, технологии, с помощью которой он упрочивает себя в мире, влияя на него множеством способов созидания и формирования (с. 57).
Философия сейчас приходит к концу. Она нашла свое место в научной позиции социально активного человечества (с. 58).
Конец философии оказывается триумфом управляемого упорядочения научно-технологического мира и социального порядка, свойственного этому миру. Конец философии означает начало мировой цивилизации, основанной на западноевропейском мышлении (с. 59).
Но, может быть, процесс растворения философии в технологизированной науке должен будет привести к выкристаллизации из этого раствора обновленной метафизики?
Нам представляется, что постнаучная метафизика будет полетом свободной наднаучной фантазии, исходящей из самой науки — из ее математических структур и порождаемых ими языков. Развитие должно быть диалектичным — так хочется думать. И сам Хайдеггер, предрекая конец классической философской эры, все же предвидел дальнейшее нетривиальное развитие мысли:
Технологическая научная рационализация, господствующая в настоящее время, оправдывает себя все более удивительно своими необъятными результатами. Но эти результаты ничего не говорят о том, каковы возможности рационального и иррационального. Результат доказывает правильность технологической научной рационализации. Но исчерпывается ли проявленность того, что существует, тем, что поддается демонстрации? Не будет ли требование непременной возможности демонстрирования служить преградой к тому, что есть?
Может быть, есть мышление, лежащее вне разграничения рационального и иррационального, еще более здравое, чем научная технология, более здравое и потому отстраненное, не дающее эффекта, но, тем не менее, имеющее свою собственную необходимость (с. 72).
И нам, вопреки Хайдеггеру (который иногда рассматривается как классик философии [Poggeler, 1983]), представляется, что именно через этот открытый союз рационального и иррационального снова возродится классическая философская мысль, которая будет опираться на язык научных представлений, но в то же время останется свободной от ограничений, накладываемых жесткой научной рациональностью, опирающейся на позитивизм. Мысль, которая может искать оправдание через свою собственную привлекательность, а не через демонстрирование чего-либо извне. Человек хочет найти удовлетворение в своей собственной мысли — той мысли, которая приобщает, а не отчуждает его от вселенского Бытия. Приобщает через мир его собственной фантазии, которая раскрывается каждый раз по-новому и на новом языке.
Здесь уместно отметить, что языковая замкнутость мысли различным образом проявляет себя в разных текстах. В физике языковые поля необычайно широки — в них находят себе место основополагающие высказывания многих крупных ученых. Так, например, в квантовой механике, обладающей своими четко выраженными языковыми средствами, мы находим много породивших ее выдающихся фигур. Иначе все обстоит в философии. Здесь, как правило, каждое языковое поле замыкается на одного создавшего его мыслителя — все существенное для этого поля выговаривается им, дальше можно говорить только о степени влияния этого поля. Так, скажем, получилось и с И. Кантом, несмотря на две возникшие после него школы неокантианства — баденской и марбургской. Особое положение сложилось, пожалуй, только в экзистенциализме. Но здесь мы имеем дело не с одним учением, а с множеством достаточно разнородных направлений мысли, объединенных только своим противоборством современной культуре. Вот как об этом говорит Кауфман [Existentialism... 1956]:
Экзистенциализм — это не философия, а этикетка для нескольких весьма различных мятежей против традиционной философии (с. 11).
Отказ от принадлежности к какой бы то ни было школе мысли, отречение от адекватности какой-либо институционизированной веры и особенно системы и заметная неудовлетворенность традиционной философией как поверхностной, академической и удаленной от жизни — вот что является сердцем экзистенциализма.
Экзистенциализм — это то вневременное осознавание, которое можно разглядеть там и здесь в прошлом; но только в наше время оно оформилось как постоянный протест и преобладающее занятие (с. 12).
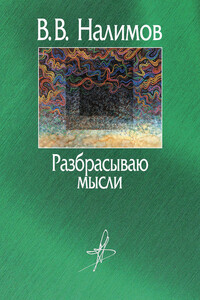
Автор приглашает читателя к размышлениям на философские темы, касающиеся сущности мира и человека, к творческому поиску в пространстве смыслов, устремленных к потенциальному богатству Будущего. Основные темы книги: смысловая природа личности, вероятностная модель сознания, биологический эволюционизм как творческий процесс, мир как геометрия и мера, философское запредельное – проблема личностной теологии.Методологическое умение автора позволяет ему соединять области рационального и нерационального, открывая новые перспективы и методы постановки вопросов.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.