Спокойные времена - [103]
«Ну как, товарищ начальник? — спросил он, кивнув в мою сторону: быть может, мы с Шачкусом малость поцапались?.. — Разговаривать не желает?»
«Пусть катится, — ответил Шачкус и даже не взглянул на меня. — Валяй! Мне и так все ясно. Даже слишком ясно… А эту… — он повел глазами на Оне. — Кулацкую бабу…»
Белобрысый парнишка схватил меня за плечо и, не дав оглянуться, протащил до самой двери. Через неделю было бюро.
И здесь, на бюро, все и всем было ясно, и даже мне самому (в свое время я и сам готовил для заседаний подобные обсуждения), хотя мысленно я продолжал спорить с Шачкусом: «Зачем бросил меня в можжевельнике?» — да еще так ясно, что я больше молчал, чем что-нибудь говорил, никто, полагаю, и не ждал моих слов, все говорили сами… Нет, вся эта история тогда очень слабо походила на сюжет книги о «трудном послевоенном периоде», может, даже моей собственной, какие стали появляться впоследствии, — она была подлинной, вся сочилась, как рана, кровью, каленым железом жгла каждый мой нерв; совсем легко и просто, по ничтожной прихоти судьбы, она могла завершиться вполне обыденными для того времени девятью граммами свинца. Или осколком гранаты — если бы я решил так просто не сдаться, — взломанной колом дверью землянки и бандитской (возможно, Райнисовой) гранатой… Или выдачей, или… или даже шальной пулькой народного защитника где-нибудь в продымленном, зыбком лесу… Мало ли чем, Бриг, могла завершиться любовная история тех лет — вовсе не под аккомпанемент сентиментальных танго (все равно люблю, грешен) или модных тогда английских вальсов, а под багровые сполохи подожженных усадеб, свист нуль над ухом и рыдания женщин — старых и молодых — над трупами, сложенными в последнюю, зловещую шеренгу на базарной площади… Но это в назидание дню сегодняшнему, всей честной компании, усердствующей над пиршественным столом, и, ясно, себе самому, прежде всего себе, если не ради собственного оправдания, то по крайней мере ради осознания своего мизерного существования (сказать осмысления было бы чересчур громко); на бюро я чувствовал себя иначе.
И даже ничего особенного я там, на бюро, не испытывал, просто знал, что опять — как будто второй раз за свою недолгую жизнь — пошел не с той ноги, с какой следовало, и за этот неосторожный шаг должен поплатиться; теперь, возможно, ценой всей жизни. Шаг был как бы вынужденный, — какое это имеет значение; и кто же мог меня вынудить, если бы я не захотел (это потом, когда начал поправляться, а до тех пор, не приходя в сознание, я не мог за себя отвечать); и не решил ли я сам извлечь кое-какую выгоду из своего положения? Просился на волю, это верно, требовал увезти меня из землянки, из этих лесов, где, я чувствовал это, открывается отнюдь не самая почетная страница моей биографии, — но и требовал («просил» — не то слово, нет, не то!), как бы загодя зная, что мой «бунт» ни к чему не приведет, сейчас я могу сказать: подсознательно выжидая, а то и не слишком желая, чтобы что-то произошло — по крайней мере по ее, Оне, инициативе, — ибо затем последовала бы еще более страшная неизвестность: что же, Ауримас, дальше?
Это сейчас, чуть не тридцать лет спустя, я рассуждаю так: руководила мной профессиональная, тогда, вероятно, скрытая, но уже существовавшая любознательность, стремление литератора все прочувствовать на собственной шкуре — в данном случае эту неповторимую и даже, я бы сказал, довольно глупо завершившуюся псевдоодиссею, поскольку в ней не было героя. В ней был лишь миф, а не герой, — миф о любви и смерти, и о смерти, возможно, больше, чем о любви (прости, Оне), лишь вялое стремление к чему-то, а не четкая цель; у комсомольца должна быть цель. Так говорили все сидевшие за длинным коричневым столом, на самой середине которого гордо красовался графин с желтоватой водой, и говорили (чувствовалось) с труднодоступным моему пониманию злорадным чувством своего превосходства, целью которого, конечно, было желание еще пуще унизить меня: студент (я еще таковым не был, хотя попутно с редакцией и беседами Фульгентаса без особого труда экстерном сдал на аттестат), бывший боец (при этом все взгляды нулями впились в меня), бывший комсомольский работник (еще парочка пулек, трассирующих), литератор (целый шквал картечи), а надо же, с моральной точки зрения… И классовой, именно, — да ведь его отношения с кулацкой женкой Начене… «Я думал спасти ее!..» — мелькнула робкая мысль, но, может, это она хотела спасти тебя? И тебя, и себя, и… и Начаса, да, да, бандюгу Райниса, своего мужа-бандита она тоже хотела спасти, и его ей было жаль, так же как меня, как малыша Ализаса, как себя самое, как… Чуть не подумал: как Шачкуса, — такой вот Оне могло быть жаль и этого Шачкуса, с которым она когда-то отплясывала на вечеринках, а потом рассталась; у каждого своя дорога; а коли ей одинаково жаль всех на свете… Это уже провал, Глуоснис, это заблуждение — когда одинаково всех жалеют, — ведь тогда вся твоя одиссея не имеет смысла… Ибо нет в мире такой жалости, которую человек может раздавать всем поровну, как нет и таких слов, которыми я — бывший боец, студент, комсомольский работник, литератор — мог бы что-то доказать всем этим людям, которые сидят за столом и буравят меня взглядами, а молить… О чем, о прощении, но что я такого натворил? Ну, ранили, ну, потерял сознание, ну… А как бы вы поступили — такие праведные, всезнающие? Неизвестно, что я делал все те недели? Где находился? С кем поддерживал связь? А откуда, скажите на милость, вам знать — вы даже не подергали дверь этой землянки, не позвали меня и, возможно, никогда, не явись я сам к Шачкусу, никогда не задумались бы всерьез — куда же все-таки я подевался? И то, на что я пошел, было лучшим, что можно было сделать в таком положении; ведь я старался и для нее! Для Оне, кулацкой женки; видно, как-то я повлиял на нее, если ей так хотелось вырваться из болота, в котором погрязла, из страшного кулацкого мира; не знала — как, но вырваться-то хотела, я чувствовал, и ей та осень что-то дала — не только мне; еще, пожалуй, трудно сказать, кому больше, и не я виноват, что Шачкус… сгоряча…
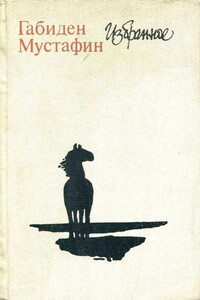
Габиден Мустафин — в прошлом токарь — ныне писатель, академик, автор ряда книг, получивших широкое признание всесоюзного читателя. Хорошо известен его роман «Караганда» о зарождении и становлении казахского пролетариата, о жизни карагандинских шахтеров. В «Избранное» включен также роман «Очевидец». Это история жизни самого писателя и в то же время история жизни его народа.
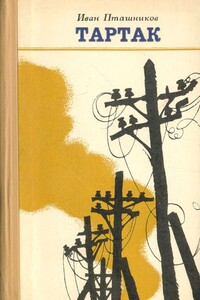
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
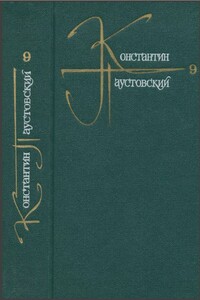
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марианна Викторовна Яблонская (1938—1980), известная драматическая актриса, была уроженкой Ленинграда. Там, в блокадном городе, прошло ее раннее детство. Там она окончила театральный институт, работала в театрах, написала первые рассказы. Ее проза по тематике — типичная проза сорокалетних, детьми переживших все ужасы войны, голода и послевоенной разрухи. Герои ее рассказов — ее ровесники, товарищи по двору, по школе, по театральной сцене. Ее прозе в большей мере свойствен драматизм, очевидно обусловленный нелегкими вехами биографии, блокадного детства.

Прижизненное издание для всех авторов. Среди авторов сборника: А. Ахматова, Вс. Рождественский, Ф. Сологуб, В. Ходасевич, Евг. Замятин, Мих. Зощенко, А. Ремизов, М. Шагинян, Вяч. Шишков, Г. Иванов, М. Кузмин, И. Одоевцева, Ник. Оцуп, Всев. Иванов, Ольга Форш и многие другие. Первое выступление М. Зощенко в печати.
