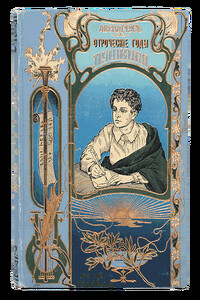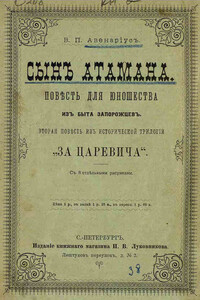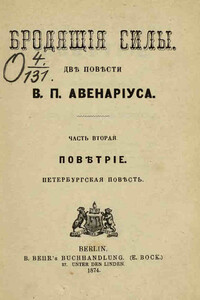— Тише, господа, тише, — предостерегал фюрер, — и вниз не заглядывайтесь.
— Отчего не заглядываться?
— Голова закружится, и тогда аминь. Еще летось покончила тут одна француженка.
— Как так? Расскажите.
— Поднималась верхом. До этого места доехала счастливо, но тут — Бог ее знает! — голова ли у нее закружилась или так, со страху — только возьми и дерни за повод; лошадь-то сдуру и тяп в пропасть. Вскрикнула дама, взревело животное, взвилась пыль столбом — и поминай, как звали! А добрый конь был, франков в восемьсот. Индо за живое схватило.
Наденька слушала с притаенным дыханием.
— И хороша была она? — спросил Ластов.
— Я вам говорю: в восемьсот франков…
— Да не лошадь! Француженка.
— Да, красивая и совсем молодая, вот как барышня… Невольные мурашки пробежали по Наденьке.
— Ах, Лев Ильич, охота вам слушать такие страсти.
— И такая веселая, — продолжал фюрер, — шутила все со своим муженьком — я не сказал еще, что она была с мужем, — сидела, так ловко избоченясь… А потом, как стали доставать с глетчера, так и человека-то в ней распознать нельзя было: ни головы, ни рук, ни ног — словно котлета или бифштекс какой, один ком сбитого мяса.
— Ах, Боже! — воскликнула Наденька. — Замолчите, пожалуйста.
Легкой серной побежала она по тропинке, шириною не более аршина и неогороженной к пропасти никакими перилами. Она, казалось, уже забыла, что ее может постигнуть одна участь с несчастной француженкой, что каждый неверный шаг ее связан с опасностью жизни. Какая-то лихорадочная веселость овладела всем ее существом.
И паладина ее подмывало. Он несколько раз собирался о чем-то заговорить с нею и не решался.
— Надежда Николаевна, — начал он было раз.
— Что-с?
Он не отвечал.
— Что же вы?
— Я ничего… я так…
— Ха, ха! Зачем же вы меня звали? Несколько минут спустя он опять назвал ее по имени.
Она весело обернулась.
— Вы это опять "ничего, так"?
— Не правда ли, Надежда Николаевна, только в холостой жизни есть поэзия?
— Очень может быть. А что?
— Да девицы еще до длинных платьев начинают мечтать о замужестве, а так как вы уже в длинном платье…
— То вы опасаетесь, что я в каждом неженатом мужчине вижу жениха?
— Да почти что так. Я хочу доказать вам, что мы с вами можем почитать себя счастливыми, что не вкусили еще семейной прозы.
Наденька принужденно расхохоталась.
— Sir! — подозвала она к себе молодого англичанина. Тот обернулся. — Знаете, что говорит мне этот барин?
— Ну-с?
— Он просит извинения, что не сватается за мной.
Едва произнесла она эти слова, как уже раскаялась в них. Ластов видел сзади, как шея и уши ее загорелись огненным румянцем. Но, не желая показать своего смущенья, она развязно обратилась к поэту:
— Заметили вы, как бездонно-глубокомысленно уставился на меня этот мистер Плумпудинг? Глаза у него так бесцветны, точно все время под лоб закатывает.
— Знаете, что говорят про вас? — отнесся теперь к англичанину Ластов.
— Что, что? Я понял только: "мистер Плумпудинг". Так, это вы меня, сударыня, изволили величать так?
Наденька смешалась пуще прежнего.
— Какой вы нехороший, Лев Ильич! Смотрите, не смейте говорить.
Не обращая уже внимания на англичанина, ожидавшего ответа, Ластов затянул на знакомый голос:
Lebet wohl, Ihr glatten Sahle,
Glatte Herren, glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf Euch niederschauen.
Залы гладкие, прощайте,
Дамы гладкие, мужчины!
В горы я иду, с улыбкой
Поглядеть на вас с вершины.
Проводник, казалось, того только и ждал: звонким голосом залился он тут же:
Bin i nit a lustge Schwizerbue, —
Не резвый ли швейцарский пастушок я?
заканчивая каждый куплет национальным гортанным припевом, известным у туземцев под названием "Jodeln". Молодые люди пытались подражать ему, но с весьма сомнительным успехом: у них выходило только какое-то дикое рычанье.
Скалистая, узкая тропинка поднималась все выше и выше. Жар солнца умерялся порывами свежего горного ветра. Путники начинали уже находить удовольствие в утомительном поднятии, входили так сказать во вкус его. Лицо и угли горят, грудь дышит порывисто и скоро, все тело пышет отрадным зноем. Чувствуешь, как уходишь все далее от земли, все ближе к этой чистой, глубокой лазури, которая, чем ближе, тем чище и глубже… Запестрели первые рододендроны. Наденька с жадностью принялась набирать их.
— Лев Ильич, помогите мне… А там-то, ах, благодать! Достаньте, пожалуйста!
Ластов смотрит по указанному направлению: несколько саженей над их головами, на почти отвесном скате, расцветает целый лес альпийских роз. Он качает головой:
— Опасно: как раз еще шею сломишь.
— Какой же вы после этого паладин? Смотрите… И в два прыжка она уже у цветов и срывает их охапками.
— Наденька! — успел только вскрикнуть испуганный юноша.
В то же мгновение полновесный камень, на который упиралась нога Наденьки, оторвался от скалы; каменные обломки, песок, альпийская палка гимназистки с шумом и треском проскакали через голову молодого человека; не успел он опомниться, как скатилась к нему и сама девушка. Он раскрыл объятья, пошатнулся, но удержался на ногах.
— Вот видите! Чуть не поплатились. Наденька, еще бледная от внезапного испуга, принужденно расхохоталась.