Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина - [47]
Для ответа на первый вопрос Кастеллио изучает протокол показаний Кальвина, чтобы прежде всего установить, в каком, собственно, преступлении обвинял Кальвин Мигеля Сервета? И он не находит никакого иного обвинения, кроме того, что Сервет, по мнению Кальвина, слишком «дерзко извращал Евангелие и был охвачен необъяснимой жаждой нововведений». Таким образом, Кальвин не обвинял Сервета ни в каком ином преступлении, кроме того, что он самостоятельно, своевольно толковал Библию и приходил к иным выводам, нежели сам Кальвин в своём церковном учении. Но Кастеллио тут же возражает. Разве Сервет был единственным, кто прибегал к подобному своевольному истолкование Евангелия в рамках Реформации? И кто осмелится утверждать, что тем самым он грешит против истинного значения нового учения? Разве такое индивидуальное толкование не есть даже основное требование Реформации, и что иное делали вожди евангелической церкви, как не осуществляли на бумаге и в устных проповедях подобное новое толкование? А не кто иной, как сам Кальвин вместе со своим другом Фарелем, не был разве самым смелым, самым твердым в деле преобразования и построения новой церкви и «не только потому, что он весь предался излишним новшествам; он сумел навязать их всем таким образом, что стало слишком опасно ему возражать. За десять лет он ввел de facto больше новшеств, нежели католическая церковь за шесть столетий»; кто-кто, а Кальвин, один из самых дерзких реформаторов, не имел права называть преступлением и осуждать новые толкования в рамках протестантской церкви.
Рассматривая собственную непогрешимость как нечто само собой разумеющееся, Кальвин считает свою точку зрения правильной, а мнение любого другого человека ошибочным. И здесь у Кастеллио сразу же возникает второй вопрос: кто дал Кальвину право судить, что истинно, что ложно? Со дня сотворения мира зло исходит от доктринеров, которые со всей нетерпимостью объявляют свою точку зрения, свою позицию единственно правильной. Именно эти фанатики единообразия мыслей и действий смущают своим воинственным диктаторским духом мир на земле и превращают естественное сосуществование идей в их противостояние и в убийственную вражду. И Кастеллио обвиняет Кальвина в подстрекательстве к духовной нетерпимости: «Все секты воссоздают свои религии согласно слову божьему и все считают свою религию правильной. Но с точки зрения Кальвина, одна должна преследовать другую. Естественно, Кальвин уверяет, что правильно его вероучение. Но и другие утверждают то же самое. Он же заявляет, что другие заблуждаются; но те говорят то же самое о нем. Кальвин хочет быть судьей — другие тоже. Где же выход? И кто уполномочил Кальвина стать высшим третейским судьей надо всеми с исключительным правом приговаривать людей к смертной казни? На чем основана его монополия судьи? — На том, что он владеет словом божьим. Но ведь и другие утверждают то же. Или на том, что его учение неоспоримо. Неоспоримо, но для кого? Да для него самого, для Кальвина. Но зачем же тогда пишет он так много книг, если на самом деле истина, которую он проповедует, столь очевидна? Почему нет ни одной книги, в которой он доказывал бы, что убийство или прелюбодеяние — это преступление? — Потому что это ясно всем. Если Кальвин на самом деле раскрыл и постиг все духовные истины, почему же он не оставляет и другим хоть немного времени, чтоб постичь это? Почему с самого начала он подавляет всех и тем самым отнимает возможность признать эту истину?»
Таким образом, теперь становится ясным первый и решающий момент: Кальвин осмелился присвоить себе функции судьи, на что он не имел никакого права. Его задача заключалась в том, чтобы объяснить Сервету, какую точку зрения он считал неправильной, в чем тот заблуждался и наставить его на путь истинный. Но вместо мирной дискуссии Кальвин тут же прибегает к насилию. «Твоим первым деянием стал арест, ты запер Сервета и отстранил от ведения процесса не только всех друзей Сервета, но даже всех тех, кто не был его врагом». Кальвин использовал только старый испытанный метод ведения дискуссии, к которому доктринеры прибегают всегда, когда спор становится неприятным: заткнуть себе уши, а другим рот; но стремление спрятаться за спиной цензуры всегда вернее всего обнаруживает душевную неуверенность человека или сомнительность учения. И словно предчувствуя свою собственную судьбу, Кастеллио призывает Кальвина к нравственному ответу. «Спрашиваю тебя, г-н Кальвин, если бы ты судился с кем-нибудь из-за наследства и твой противник добился бы у судей права слова только для себя одного, в то время как тебе было бы запрещено говорить, разве ты не восстал бы против такой несправедливости? Зачем же ты делаешь другим то, чего не хотел бы, чтоб делали тебе? Мы дискутируем с тобой по вопросам веры, почему же ты затыкаешь нам рот? Неужели ты настолько убежден в убожестве своих доводов, так боишься быть побежденным и потерять свою власть диктатора?»
Таким образом, принципиальное обвинение против Кальвина было сформулировано. Опираясь на государственную власть, Кальвин присвоил себе право одному решать все богословские, светские и нравственные проблемы. Тем самым он преступил богом данный закон, по которому каждый человек наделен мозгом, чтобы самостоятельно мыслить, ртом, чтоб говорить, и совестью, этим высшим сокровенным нравственным началом; преступил он и всякие земные законы, когда позволил преследовать человека как последнего злодея только за его инакомыслие.

Литературный шедевр Стефана Цвейга — роман «Нетерпение сердца» — превосходно экранизировался мэтром французского кино Эдуаром Молинаро.Однако даже очень удачной экранизации не удалось сравниться с силой и эмоциональностью истории о безнадежной, безумной любви парализованной юной красавицы Эдит фон Кекешфальва к молодому австрийскому офицеру Антону Гофмюллеру, способному сострадать ей, понимать ее, жалеть, но не ответить ей взаимностью…

Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) давно завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века.

Всемирно известный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881–1942) является замечательным новеллистом. В своих новеллах он улавливал и запечатлевал некоторые важные особенности современной ему жизни, и прежде всего разобщенности людей, которые почти не знают душевной близости. С большим мастерством он показывает страдания, внутренние переживания и чувства своих героев, которые они прячут от окружающих, словно тайну. Но, изображая сумрачную, овеянную печалью картину современного ему мира, писатель не отвергает его, — он верит, что милосердие человека к человеку может восторжествовать и облагородить жизнь.

Книга известного австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) «Мария Стюарт» принадлежит к числу так называемых «романтизированных биографий» - жанру, пользовавшемуся большим распространением в тридцатые годы, когда создавалось это жизнеописание шотландской королевы, и не утратившему популярности в наши дни.Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт (1542-1587).Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература - драмы, романы, биографии, дискуссии.
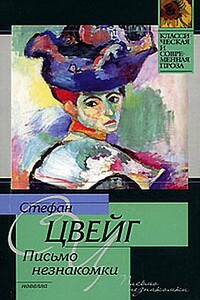
В новелле «Письмо незнакомки» Цвейг рассказывает о чистой и прекрасной женщине, всю жизнь преданно и самоотверженно любившей черствого себялюбца, который так и не понял, что он прошёл, как слепой, мимо великого чувства.Stefan Zweig. Brief einer Unbekannten. 1922.Перевод с немецкого Даниила Горфинкеля.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
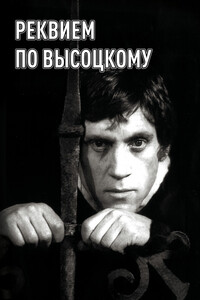
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.