Солнце самоубийц - [46]
Сны ли, кошмары рождают эти полу-проявленные облики, символы подавленных вожделений — полуголые, в замысловатых одеяниях, с размытыми порочно-юными ликами, пестрые, с преобладанием горячечно-красного цвета?
Вспышка безумия, мутный взор депрессии, пророчества, скорее похожие на кликушество, сменяемые болтовней, суетой огромного города, толкучкой потных, подверженных массовому психозу толп, — все это разряжается мотивами детства, природы, полной покоя и отрешенности.
Но гениальность художника в том, что эти облики-символы мимолетны, возникают на миг и, кажется, проплывают мимо сознания, которое пытается уловить сюжетную нить сцены, глубинный смысл полотна. Только потом, спустя время, когда поверхностный зрительный поток схлынет, потускнеет, выступают в памяти именно эти как бы проскользнувшие в подсознание символы, бередят душу, лишают покоя, становятся главной сутью выдуманного мира художника, воспринимаемого с галлюцинирующей реальностью. Ненароком, ненарочито, но щедро разбросанные в сценах и полотнах, они-то и образуют костяк мира художника, они-то несут всю тяжесть замысла, который слушает, а Кон и не понимает, удивляясь этой болтовне, как удивлялся спокойному отношению Маргалит к тому, что муж ее проспал весь фильм.
Все же Кону как-то неловко: ведь это его отвозит Якоб Якоб, почти захлебываясь ветром, и говорит, говорит, вздыхает, смеется, хлопает ладонями по рулю.
— О чем это он?
— Не догадываешься? Все о том же. Был у человека звездный час. Как и у старика. Ты даже не представляешь, насколько они друг на друга похожи. Каждый зациклился на своем. Там он жил, а ныне существует. Там была молодость, риск, игра на жизнь, уверенность в правоте дела, незаурядные однополчане, ты в этом убедился, глядя на фото. А кто он сейчас: чиновник, перекладывающий бумажки и пытающийся зычным голосом вояки перекрыть пренебрежительное отношение подопечных к себе?
— Она догадывается, о чем ты говоришь?
— Кстати, не так уж сидящий за рулем глуп, как это кажется. У него даже степень. Кажется, по социологии. Он был ее студентом. Вольнослушателем.
— Ясно: дело темное.
— Море, — оживился Майз, прижавшись лбом к стеклу, темное…
Набережная в Остии. Несмотря на поздний час из какого-то сверкающего багрово-фиолетовыми огнями дансинга доносится ритмизированный рев музыки, клубится нечто массово-плотное-потное, бордово-бредовое.
А вот и знакомое: эмигранты кучно и в одиночку имитируют для самих себя вальяжное прогуливание перед сном. Некоторые даже размахивают изысканной тростью с инкрустированным набалдашником, приобретенной у какой-нибудь питерской старушки, бывшей дворянки, за приличные деньги. В Италии такие трости идут хорошо. В такой поздний час одна надежда на итальянцев, приезжающих на своих машинах из Рима посидеть в темноте у моря.
Кон как бы со стороны, из машины, из иной жизни видит глазами итальянцев эту скудную и так неумело хорохорящуюся эмигрантскую жизнь.
Опять кто-то в верхних этажах запустил на полную мощь Высоцкого, установив над пространством улицы музыкальный террор.
Это уже не в первый раз. Снизу кричат свои же, на русском: грозятся вызвать полицию. Иногда такое мучение квартал, в котором обитает Кон, испытывает днем: кажется, этому хриплому завыванию конца не будет, кажется, это тайная садистская месть кого-то из соотечественников за все унижения эмигрантской жизни. Трудно определить, из какой это квартиры. Рев этот становится постоянным элементом существования. Не верится, что он вообще когда-либо прекратится. До того покоряешься звуковому насилию, что обнаруживаешь себя среди тишины, даже не ощутив перехода, упустив такой редкий в эмигрантской жизни миг райского блаженства.
Вот и знакомый сквер: старички в поношенных пиджаках вместо пикейных жилетов раз и навсегда обсели пятачок.
Не успели опомниться, как Якоб Якоб круто сворачивает влево, выгоняет машину почти к кромке моря, глушит мотор, хлопает дверцой, быстро пересекает набережную в сторону старичков; уже слышится его почти ликующе грубый голос:
«Ду редст ойф идиш?»
— Ну, теперь это надолго, — Майз переводит слова Маргалит.
В соседних машинах безмолвно сидят итальянцы. Огонек сигареты иногда освещает лицо женщины или мужчины. Можно представить, как заставило их поморщиться хлопанье дверцы, носорожье вторжение Якоба Якоба.
Люди во мгле слушают море.
Долгий забвенный плеск.
Море, столь знакомое Кону, ничейное и сверхличное, приносящее не то, чтобы облегчение в эти часы прочного обложного одиночества, без угла и прикола, а некую синхронность, ненавязчивое понимание, соприсутствие, декабрьский отрезвляющий холод, как прикосновение ладони неба к горячему лбу.
Светлая яхта на кажущихся высокими водах Тирренского моря чудится в этот поздний час буем, огоньком, отмечающим лишь место живой души в мертвом безбрежье вод.
Светлая яхта, манящее видение, причудливый корабль из феллинниевых фильмов-снов, как бы идущий к берегу, но замерший вдали, и там — тихая музыка, силуэты женщин в ауре недоступности, не только внешней, но и потому, что живут они в стихии иного языка, да какого, итальянского, с медной примесью латыни, чеканной звонкостью, отлетающей от их молодости, ослепительной, как и их перламутровые зубы, сверкающие в широкой и вовсе не рекламной улыбке.

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний.

Роман Эфраима Бауха — редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля — Моисея (Моше).Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом.Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме. Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев.

Крупнейший современный израильский романист Эфраим Баух пишет на русском языке.Энциклопедист, глубочайший знаток истории Израиля, мастер точного слова, выражает свои сокровенные мысли в жанре эссе.Небольшая по объему книга – пронзительный рассказ писателя о Палестине, Израиле, о времени и о себе.
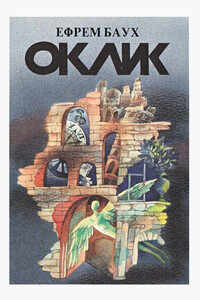
Роман крупнейшего современного израильского писателя Эфраима(Ефрема) Бауха «Оклик» написан в начале 80-х. Но книга не потеряла свою актуальность и в наше время. Более того, спустя время, болевые точки романа еще более обнажились. Мастерски выписанный сюжет, узнаваемые персонажи и прекрасный русский язык сразу же сделали роман бестселлером в Израиле. А экземпляры, случайно попавшие в тогда еще СССР, уходили в самиздат. Роман выдержал несколько изданий на иврите в авторском переводе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Да или нет?» — всего три слова стояло в записке, привязанной к ноге упавшего на балкон почтового голубя, но цепочка событий, потянувшаяся за этим эпизодом, развернулась в обжигающую историю любви, пронесенной через два поколения. «Голубь и Мальчик» — новая встреча русских читателей с творчеством замечательного израильского писателя Меира Шалева, уже знакомого им по романам «В доме своем в пустыне…», «Русский роман», «Эсав».

Маленький комментарий. Около года назад одна из учениц Лейкина — Маша Ордынская, писавшая доселе исключительно в рифму, побывала в Москве на фестивале малой прозы (в качестве зрителя). Очевидец (С.Криницын) рассказывает, что из зала она вышла с несколько странным выражением лица и с фразой: «Я что ли так не могу?..» А через пару дней принесла в подоле рассказик. Этот самый.

Повесть лауреата Независимой литературной премии «Дебют» С. Красильникова в номинации «Крупная проза» за 2008 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
