Солист Большого театра - [21]
Беседуя в первом ряду партера с режиссёром, я не мог оторвать глаз от сцены: погружённая в полумрак и почти свободная от декораций, она казалась громадной и притягивала, словно сильнейший магнит. В очередную паузу я не выдержал и поднялся на просцениум.
Несколько ступенек приставной лесенки и мостик через оркестровую яму, несколько шагов к суфлерской раковине. Останавливаюсь, оборачиваюсь и скорее угадываю, чем вижу огромный зал, чьё пространство лишь намечают мерцающие во тьме аварийные лампочки.
Зал пуст, но воображение заполняет его от первых рядов партера до верхних ярусов. На меня устремлены глаза двух тысяч зрителей, я слышу их дыхание, гул их голосов и вдруг упавшую тишину: за пюпитр в оркестровой яме встаёт дирижер, он поднимает руку и взмахом своей палочки предлагает мне вступить… мне?!
Этот миг являлся мне в страшных снах – «Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси»… и всякий раз я просыпался со сладостным чувством освобождения от ужаса: как же замечательно, что мне не нужно выходить на эту сцену – она, как, впрочем, и любая другая мне враждебна.
У каждого в жизни есть свой страх и своя радость. Как лётчик мечтает о высоте, как при виде пустых трибун огорчается спортсмен, так и артист готов на всё, лишь бы выйти на сцену – он живёт с постоянным её в себе ощущением.
Вне сцены отец вёл себя как обычный человек – щёк не надувал, и кто никогда его не слышал, мог не догадаться, что перед ним артист. И всё же вросшая в него привычка к сцене порой проявлялась в быту «выражением на лице», например за праздничным столом, когда гости произносили тосты в его честь. Мне это казалось позой, однажды, увидев, как в ответ на очередной панегирик он, только что от всех неотличимый преображается, я не выдержал и что-то буркнул сидевшей рядом Янине Жеймо (дочери Янины Брониславовны, нашей знаменитой кино-Золушки). Она взглянула на меня с изумлением: Ну, ты даёшь! Неужели не понимаешь, что они – другие люди, не такие, как мы. Они срослись со сценой, экраном, аплодисментами, букетами, здравицами, без них они сохнут, как цветы без воды.
Признаю: был категорически неправ. Более того, понимаю, что мы сами, зрители-слушатели, оказываясь рядом с артистом, ждём от него постоянного предъявления «артистизма» (как от сатирика нескончаемого юмора).
И разворот на 180 градусов: а требуется ли особое драматическое мастерство в таких ролях, как, скажем, Альфред Жермон («Травиата»). Первое появление: беспечный красавец (Арман из пьесы «Дама с камелиями» Дюма-сына) объясняется в любви к Виолетте. Когда она по мольбе Жермона-отца покидает сына, тот, страдая от уязвлённого самолюбия, публично её оскорбляет. Узнав правду, вновь страдает, умоляя простить. По мне сыграть – не спеть! – такие «лики» по силам участнику самодеятельности, тем более что ему помогает музыка великого Верди.
Образ графа Альмавива задан драматургией Бомарше, подкреплённой искромётной музыкой Россини. Сценически эта роль выигрышнее Альфреда. В ней и объяснение в любви, и задуманная (но не графом, а Фигаро) ради соединения влюблённых интрига с обманом отца Розины и его хитроумного советника Базилио, а потому сыграть этого «фрачного героя» любителю даже легче.
При этом на сценическое воплощение этих и других ролей – герцога Мантуанского, Джеральда, царя берендеев – отводится пара-тройка часов. Иное дело Юродивый: его всего два появления и несколько фраз – жалоба, призыв и пророчество – занимают в целом несколько минут. Вот его сыграть так, чтобы врезаться в память зрителя-слушателя, может далеко не каждый профессионал.
А уж спеть Юродивого вне спектакля, вне сценического действия, мог бы разве что Козловский, но, насколько я знаю, и он такого себе не позволял.
Иное дело – классические русские романсы и песни, авторов которых вдохновила великая поэзия, в истории музыки сопоставимые лишь с песенными циклами Шуберта и Шумана. Почти в каждой из них, своеобразной мини-пьесе, пусть и не столь мощной, как в опере, драматургией, есть сюжет и подразумеваемый персонаж. Вот чтобы его за две-три минуты предъявить зрителю-слушателю и не уйти со сцены «под шорох своих шагов», требуются не только вокал, но, как минимум точные интонация, мимика, жест.
Чтобы покорить арией, например, песней Певца из оперы Аренского «Рафаэль» («Страстью и негою сердце трепещет») или Молодого цыгана из оперы Рахманинова «Алеко» («Взгляни, под отдалённым сводом»), требуется в первую, вторую и третью очередь Голос именно что с большой буквы.
В романсах только звуком и эмоцией не обойтись, а потому, скажем, «Сожжённое письмо» Кюи-Пушкина или «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной» Рахманинова-Пушкина поёт отнюдь не каждый профессионал.
Или романс Титова-Минаева: «Я знал ее милым ребенком когда-то». Драматургии – кот наплакал. Случайно разбив куклу, девочка плакала всю ночь напролёт, спустя годы разбила сердце рассказчика столь душераздирающей истории, но плакал об этом только он. Всё! Но спеть-то это надо так, чтобы в памяти слушателя остались не только мотив и слова, но и безутешный страдалец.
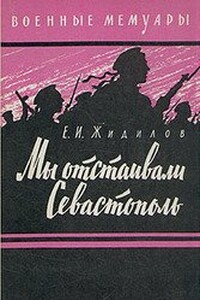
Двести пятьдесят дней длилась героическая оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны. Моряки-черноморцы и воины Советской Армии с беззаветной храбростью защищали город-крепость. Они проявили непревзойденную стойкость, нанесли огромные потери гитлеровским захватчикам, сорвали наступательные планы немецко-фашистского командования. В составе войск, оборонявших Севастополь, находилась и 7-я бригада морской пехоты, которой командовал полковник, а ныне генерал-лейтенант Евгений Иванович Жидилов.

Книга американского журналиста Питера Даффи «Братья Бельские» рассказывает о еврейском партизанском отряде, созданном в белорусских лесах тремя братьями — Тувьей, Асаэлем и Зусем Бельскими. За годы войны еврейские партизаны спасли от гибели более 1200 человек, обреченных на смерть в созданных нацистами гетто. Эта книга — дань памяти трем братьям-героям и первая попытка рассказать об их подвиге.

Предлагаемый вниманию читателей сборник знакомит с жизнью и революционной деятельностью выдающихся сподвижников Чернышевского — революционных демократов Михаила Михайлова, Николая Шелгунова, братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, Владимира Обручева, Митрофана Муравского, Сергея Рымаренко, Николая Утина, Петра Заичневского и Сигизмунда Сераковского.Очерки об этих борцах за революционное преобразование России написаны на основании архивных документов и свидетельств современников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
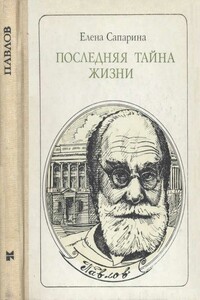
Книга о великом русском ученом, выдающемся физиологе И. П. Павлове, об удивительной жизни этого замечательного человека, который должен был стать священником, а стал ученым-естествоиспытателем, борцом против религиозного учения о непознаваемой, таинственной душе. Вся его жизнь — пример активного гражданского подвига во имя науки и ради человека.Для среднего школьного возраста.Издание второе.

В этом романе читателю откроется объемная, наиболее полная и точная картина колымских и частично сибирских лагерей военных и первых послевоенных лет. Автор романа — просвещенный европеец, австриец, случайно попавший в гулаговский котел, не испытывая терзаний от утраты советских идеалов, чувствует себя в нем летописцем, объективным свидетелем. Не проходя мимо страданий, он, по натуре оптимист и романтик, старается поведать читателю не только то, как люди в лагере погибали, но и как они выживали. Не зря отмечает Кресс в своем повествовании «дух швейкиады» — светлые интонации юмора роднят «Зекамерон» с «Декамероном», и в то же время в перекличке этих двух названий звучит горчайший сарказм, напоминание о трагическом контрасте эпохи Ренессанса и жестокого XX века.