Собрание сочинений. Том 1 - [32]
Я по многу раз перебираю всякие грустные мелочи, бесповоротно доказывающие, как Леля ко мне переменилась, и это вечное сравнивание нашего начала и конца, прежде непереносимое, теперь меня задевает безбольно и, пожалуй, приятно. Но даже в то время – при Леле, – когда впервые грустная перемена мною была обнаружена и поражала еще по-свежему и болезненно, я нарочно прибегал всё к новым упорным проверкам, часто насильственным и неловким – не ради надежды, не из желания лишний раз убедиться в дурном для себя конце, а для какой-то печальной и мне необходимой внутренней усмешки, из которой и вышло теперешнее, приятно задевающее вечное сравнивание. Однажды в плохую минуту, неожиданно ломая предыдущий наш разговор и заранее уверенный в провале, я попросил Лелю зашить потемневшую старую мою перчатку. Как я и предвидел, она удивилась и полураздраженно ответила: «Ваша консьержка это сделает гораздо лучше меня» – и было нетрудно разобрать в раздраженном ее отказе также отказ от милой заботливости, недумание обо мне, а главное (отчего я вспыхнул), именно к моей перчатке смутную брезгливую неприязнь. Я вспомнил наш первый совместный день, свое восхищение ловкой ее работой и трогательной услужливостью, и вот, произведя намеренно-разрушительный опыт, навсегда это восхищение отравил.
Еще болезненнее меня поражало (и теперь особенно сладко припоминается) упрямое Лелино старание уклоняться от моих услуг: насколько раньше она гордилась влюбленным, невольно-рыцарственным моим благородством, настолько это же самое ей казалось потом утомительно-ненужным («Вы всегда делаете лишние вещи» – когда я, некурящий, протягивал папиросы в желтой обертке, на всякий случай для нее приготовленные) и, быть может, ее раздражало, что услужлив не кто-либо другой.
Леля противилась, как могла, нашей прежней взаимной внимательности и, чтобы ее исключить, сделать законно-невозможной, не оставалась со мною вдвоем, и это ее избавляло – не от самой ответственности (которая по существу исчезла уже давно), а от всего, для нее тягостного, о чем я уже писал – от необходимости отвечать, от упрекающих и настойчивых моих вопросов, и я опять поневоле сравнивал, как раньше она стремилась непременно побыть вдвоем, считала посторонних врагами и дорожила, краснея от удовольствия, всяким признанием безукоризненной ее ко мне деликатности, внимания и доброты. Она не могла бы в тот первый месяц обрадоваться Бобке Вильчевскому, с ним сдружиться, часто видеться с разными нелепыми, недостойными ее людьми и разочарованно, зло молчать, если неудавшееся свидание или плохо исполненное мной поручение нас принуждало целый вечер провести вдвоем. Я хотя и боялся гневной Лелиной проницательности, однако научился довольно ловко запутывать ее желания и перелагать вину на других (телефон – непрерывно занят, Вильчевские куда-то ушли, не стоит Бобку приглашать – с ним сегодня его дама), и мне иногда было жалко обманутой Лелиной доверчивости, но чему угодно я предпочитал эту сомнительную (из-за боязни отпора) и почти не использованную возможность наших редких уединенных встреч – объясняться, спрашивать, требовать, мучить и самому мучиться от безответных своих упреков.
С быстрым чередованием сравнений, будто бы Лелю обвиняющих, постоянно скрещиваются другие – в ее пользу – моих теперешних друзей с Лелей, а главное, моего времени, моих вечеров с нею и без нее, и эти сравнения, возникающие лишь по живому и определенному поводу, не связанные с моим воображением, никогда не задевают меня приятно и как бы вскользь, не входят в заманчивую область «я и Леля» и доказывают обо мне единственно-трезвую правду – что все люди кругом лишние, что мне нужна только Леля и что я должен, забыв о плохом, поехать за ней, добиться ее приезда и вернуть утраченное расположение. Это вряд ли возможно и произойдет не скоро, и у меня нет силы и выдержки хотеть, добиваться, ждать, и осталось одно, чтобы отвлечься и себя обмануть – привычные мстительные мысли, злорадные доказательства Лелиных ошибок, всё то же полувымышленное «я и Леля».Самое трезвое и земное, что мне еще как-нибудь доступно – минуты, когда взволнованно прихожу домой, ищу писем, которых пока не было, но которые могли бы все-таки быть, которые Леля могла бы написать и в конце концов (иначе – бесчеловечно) напишет своей рукой, своим почерком, собственными о себе словами, и это ожидание, эти предполагаемые (вероятно, чужие и холодные) письма – единственное, что связывает меня с Лелей, единственно похожее на всех людей, крепко живущих, любимых или добивающихся любви и для меня неотразимо-достойных. И однако себе я выбрал иную судьбу, примирительно-ровную – из житейских уступок и мелких необязывающих вымыслов – может быть, оттого что судьба достойного и сильного человека не удалась и у меня больше нет выбора или нет мужества переменить выбор.
Часто вижу себя как бы извне, и тогда становится еще яснее мое назначение и до чего мне трудно и не подходит что-то завоевывать и жадно потом охранять, не страшась ответственности, соперничества, борьбы и не поддаваясь сладкому самоусыплению. Но даже и найдя бедное и несчастливое свое место, я не мирюсь сразу и легкомысленно с тем, какое оно, с неудавшейся молодостью, с обреченностью на одиночество, я навязчиво думаю о причине малодушного выбора, как будто в ней избавление, и, кажется, начинаю улавливать – ее трудно назвать и совершенно нельзя устранить: это, пожалуй, самое внутренно-значительное мое свойство – что у меня нет постоянной смены усилий и разряжений, составляющей основу всякой душевной жизни и обеспечивающей и отдых, и после отдыха свежий первый толчок – мое первое усилие требует всё новых, если же себя распускаю, тоже никак не удерживаюсь, и случайное устремление превращается (пример – вымыслы о Леле) в безостановочный и бесплодный полет. Каждое мое усилие длительно и утомляет неминуемо, каждое отвлечение уводит чересчур далеко, и мне тяжелее многих других дается всё простое и нужное – правда, ленивый мой ум успевает отметить и оценить и напряженное старание, и безвольный быстрый полет, непомерно раздавшиеся в длину.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.
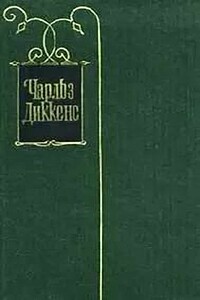
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
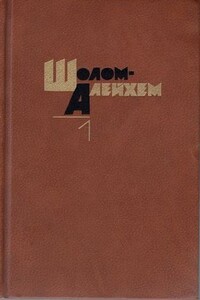
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.