Собрание сочинений. Том 1 - [30]
Молодых Вильчевских почему-то и в глаза и за глаза пренебрежительно-ласково называют Бобкой и Зинкой, хотя «Зинка» была замужем, разведена, и ей, кажется, двадцать восемь лет. Эти легковесные имена, однако, оправданы и звучат естественно: в брате и сестре есть что-то беспочвенное, растерянное, всегда неточное и бессознательно-печальное, и больше всего в них обоих преклонения перед блеском, перед чужой удачей, без зависти и с некоторым старанием лишь отразить недоступный им блеск – конечно, по-скромному и со стороны. У Зинки это направлено (бессильно и неожиданно-старомодно) на «искусство», на актеров и писателей, мало кому известных, у Бобки – определеннее и цепче – на деньги и на дела. Он и меня считает удачливым дельцом и «со связями» (из-за Дерваля) и разговаривает с оттенком почтительности, как будто спрашивает совета и непременно послушается. Бобка – средне высокий, с гладкими и блестяще-черными, на пробор, волосами, у него сияющие круглые темно-карие глаза, щеки розово-красные (как бы с холода) и в ямочках, и та, напоказ задорная, ищущая одобрения и никого не заражающая улыбка, которая чем-то напоминает «руку, повисшую в воздухе». Он и весь несуразный – из-за квадратного туловища, из-за слишком больших, точно вспухших, рук с деревянными пальцами и кругло-широкими ногтями, из-за тяжелых мешковатых ног – но старается быть элегантным, выработал «свой стиль» (гетры, допустимо-пестрые галстухи и рубашки, покачиванье при ходьбе) и мне иногда казался рядом с Лелей – как бы в тон ей, хотя и по-разному – сияюще-ярким и картинным. Зинка, наоборот, вся тусклая, у нее бледно-серое лицо, бесцветные волосы темнеющей блондинки, тоже большие, хотя и приятные, руки и благодаря низким каблукам длинная, грубоватая, словно мужская ступня. Поражающее, несоответственное у нее – полные, равнодушно-согласные, какие-то бесстыдные губы и удлиненно-стройные, крепкого покроя, ноги, которыми она – без смущения и без вызова – пытается иногда щегольнуть. Брат и сестра, оба высокие и молодые, не составляют, как можно было бы ожидать, цельной и ловкой пары: то растерянное, приблизительное, что так очевидно в каждом из них, нуждается – даже для внешнего сопоставления – в посторонней твердой опоре.
Мне хочется торопливо пройти мимо всех этих скучных описаний, излишних в такой работе – для себя одного, – но не могу избавиться от всегдашней тщеславной надежды, что записи мои (помимо меня и как бы мне в награду) будут кем-то внимательно прочтены, и, заранее по-детски растроганный, верю в читательницу, понятливую и добрую, и жду, когда наконец «она» (Леля или же следующая и последняя) найдется и мы оба заслужим чудо взаимного доверия, и вот для «нее», не осведомленной о прежней моей жизни, надо всё добросовестно приготовить, как бы это ни казалось пустым и обидно-ненужным. Для меня самого внешние люди, обстановка, всякие «массовые» события – лишь огрубление и подмена настоящей человеческой сути, которая так явно дана в каждом единичном чувстве, в каждой любви, горестной или радостной, потому что собственные, ненавязанные наши чувства, прилежное и умелое их созерцание нас освобождают от душевной пыли, обычно всё покрывающей, а на нее, на внешнее, жалко тратить короткую, единственную, всегда стремящуюся к полету и грузно опускающуюся нашу жизнь. «Настоящая человеческая суть» – не слова, придуманные на случай: в ревности, своей или наблюденной, во всех, нас задевающих, особенно любовных, отношениях есть, наряду с происходящим и переживаемым (даже самоубийственно-грустным), какая-то восхищающаяся собой, только что рожденная, упоительно-живая новизна, ради которой до легкомыслия просто и мучиться и умереть и которой нет и не найти в условностях дома Вильчевских, в Бобкиных гетрах, во всем и везде, откуда она изгнана поверхностными, скудно изобретенными, мертвящими повторениями. Я мог бы на многое еще распространить область живую и область мертвую, но хочу и должен себя ограничивать, иначе выступает опасность, худшая, чем прижизненная смерть – поглощенности случайным, безволия и распыления.
Вернусь хотя бы ненадолго к Вильчевским: мне особенно обидно о них писать – ведь именно они главное, нелепое и добровольное препятствие к тому, простому и недостижимому, чего я весь день добиваюсь, к уединению и дневниковой работе. Прежде мне казалось, будто Леля, стараясь не оставаться со мною вдвоем, прячась от моих упреков и возможных, чересчур ясных вопросов, нарочно меня втягивает в первый нам подвернувшийся кружок, но без нее происходит то же самое, и это отчасти объясняется слабой моей сопротивляемостью, отчасти же избалованностью – за месяцы с Лелей я привык постепенно к людям, стал бояться одиночества и готов его на что угодно, утомительное и недостойное, променять. Сегодня у Вильчевских я впервые подумал о странной своей неразборчивости – как это всегда бывает, из-за повода ничтожного и случайного: Зинка на прощание кому-то шутя сказала «приходите, теперь вы знаете к нам дорогу», что она неизменно говорит каждому новому гостю, и я невольно сравнил с ней Лелю, у которой не могло быть ни общих мест, ни самодовольно-уверенного их повторения, и мне представилось невыносимым не только ее отсутствие и замена кружком Вильчевских, но и весь мой день, предначертанность, искусственность, тренированность каждой минуты, вечное торопливое беспокойство – от пробуждения до сна – и вот глупая Зинкина фраза, нечаянно мне указавшая, что кругом, в других, опоры и разрешения не найти, оказалась для меня значительной и как бы заставила возобновить прерванные, уединяющие мои записи. И всё же Вильчевские мне нужны: они остаются пока единственным напоминанием о Леле и как раз после ее отъезда они сделались кровно-необходимыми – следствие обычной в таких случаях мгновенной душевной перестановки, мгновенного перехода от обеспеченности, от опьяненности чьим-нибудь, нам особенно важным присутствием к безнадежной и холодной осиротелости, когда те, кого мы всегда считали назойливыми и лишними, вдруг становятся достойными, желанными собеседниками, перенявшими что-то утраченное, незаменимое и близкое, способными нас задеть, понятливо выслушать – и удивить еще неизвестным.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
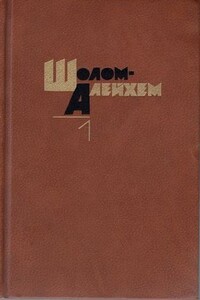
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.