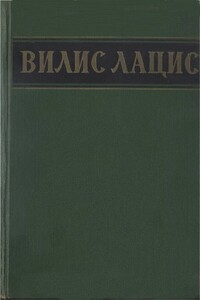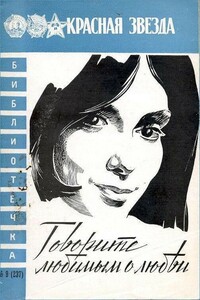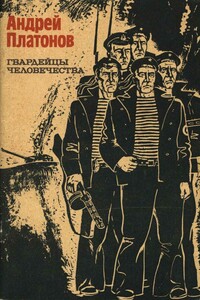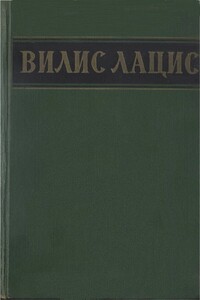— В котором часу выйдем в море? — спросил Инга.
— Время укажет фельдфебель Фолберг, — ответил Дуксис.
С синевато-багровой, дряблой физиономии трактирщика, выдававшей пристрастие его к крепким напиткам, никогда не сходило сонное выражение. Он постоянно зевал, а попав в теплое помещение, сейчас же начинал тереть глаза, чтобы не задремать.
С приходом фашистов Дуксис перестал ходить щеголем; он предусмотрительно припрятал широкое золотое обручальное кольцо и часовую цепочку с брелоками: он прекрасно знал, что фрицы неравнодушны к подобным вещичкам. Увидят — и спрашивать не станут, хоть это их же ставленник Дуксис. О простых рыбаках нечего и говорить. Отдавай без лишних разговоров — фюреру все пригодится…
— Надо же мне знать, когда разогревать мотор, — проворчал Инга, — прикажет в последнюю минуту, а потом я же окажусь виноватым.
— Тебя разбудит солдат, — пояснил Дуксис, — скажу, чтобы он сделал это заблаговременно. Да и малышу придется ехать. Мы возьмем на буксир лодку с рыбой. Все, что наготовили за это время, надо свезти. Вот малыш и будет управлять лодкой. Погода обещает быть ясной и тихой. Так-то вот…
Словно хозяин, отдавший приказания батракам, ничуть не сомневаясь в том, что его распоряжения будут беспрекословно выполнены, Дуксис самодовольно щелкнул языком и удалился. Он с минуту задержался возле отца Инги, старого Мурниека, который стамеской скоблил новое весло. О чем они беседовали, Инга не слышал. Да это его и не занимало, у него в голове было другое. Как хорошо, что посторонние не могут разгадать его мыслей. Да, если бы люди знали…
Инга угрюмо усмехнулся. Обождав за сараем для спасательных лодок, пока ушел Дуксис, Инга подошел к отцу.
— Я пройдусь к взморью, — сказал он. — Когда вернется Эвалд, передай ему, что завтра поедем в город.
— Об этом мне Дуксис уже говорил, — пробурчал старый Мурниек, не отрываясь от работы.
Седой, сгорбленный, с обгрызенной трубкой в зубах, копошился он возле клети — тихий и смирный. Всю свою долгую жизнь он провел в суровом, сопряженном с опасностями труде, вырастил двух сыновей и дочь. Среди белых песков, за дюнами, виднелся покрытый мохом серенький домик. В бухте качалась на якоре старая моторная лодка, на жердях по берегу развешаны были для просушки сети и невода. Это было все его имущество, все, что накопил он за долгую трудовую жизнь. Скромная, незатейливая была эта жизнь. Соленая морская вода и ветер, солнце и песок. Три раза в году всей семьей посещали церковь. После удачного лова — бутылка водки. Заблаговременно закрепленный уголок на кладбище, возле могилы отца и рано умершей жены.
Необычайная тяжесть давила сердце Инги. Он тряхнул головой и, не сказав больше ни слова, направился к дюнам. Однако, дойдя до леса, он не сразу пошел к взморью, где лежали насквозь пропитанные соленой влагой рыбачьи лодки и развевались на ветру просохшие сети. Через покрытый мохом холм Инга зашагал к мысу, уходившему далеко на запад, туда, где полоса дюн глубоко врезалась в побережье.
То была неприветливая, пустынная местность. Белые пески застыли здесь, словно могучие волны, выброшенные далеко на берег западными ветрами. Поросшая высокими соснами цепь прибрежных дюн правильным полукругом опоясала эту маленькую пустыню. Инга остановился возле старой ветвистой сосны, Искалеченное, истерзанное морским ветром дуплистое дерево стояло особняком на самой вершине дюны, и его кривой, узловатый, покрытый наростами ствол напоминал натруженное тело старого рабочего. Внизу, у его подножия, в бурой дымке лежало спокойное серое море. В одном месте, у самой воды, на песке виднелось множество белых пятен. То были стаи отдыхавших здесь чаек. Дальше вокруг кучи каких-то черных предметов двигались темные точки.
Там была рыбачья пристань, там суетились рыбаки и расхаживал немецкий солдат с винтовкой и биноклем. Несколько рыбачьих лодок возвращалось домой из открытого моря. И хотя лодки были еще далеко, все же Инга отлично видел за несколько километров, как поднимались весла, как гребцы откидывались при каждом взмахе весла. «Минут через двадцать лодки пристанут к берегу, — подумал про себя Инга. — Солдат подойдет к ним, будет влезать в каждую лодку и обнюхивать все уголки, заглянет под слани[17], обшарит карманы рыбаков — не спрятана ли где-нибудь рыбешка…»
«Проклятые… — заскрежетал зубами Инга.. — Живоглоты жадные… Последнюю рыбью косточку норовят отобрать, все глотают… Взвешивают улов до последнего грамма, как в аптеке, расплачиваются же ничего не стоящими бумажками — какими-то оккупационными марками. По всему побережью разносится дым от рыбокоптилен — приятный запах копченой камбалы, килек, салаки. И все это богатство попадает в руки врагов, изголодавшихся гитлеровских трутней. Ты рыбачишь, радуешься — а есть-то будут другие. Ты можешь умирать с голоду, но для них это сущие пустяки: ведь ты не человек, а только раб».
Неохотно оторвал Инга взгляд от любимого моря и побережья. Медленно, осторожно, словно боясь раздавить что-то, Инга бережно опустился на землю в нескольких шагах от старой сосны. Выражение боли и нежности легло на его лицо. Ласково гладя рукой песок, он погрузился в думы.