Собеседники на пиру - [15]
Часто указывалось на гностические (и буддийские) моменты у Сологуба, на то, что его творчество далеко от христианского миросозерцания[102]. Вселенная Сологуба находится во власти демонических сил, представляется творением некоего злобного демиурга (можно найти тексты, противоречащие этому взгляду, но они редки, не слишком показательны, а иногда могут восприниматься как ироничные). Типологически (возможно, и генетически) эта модель соотносится с учением катаров (в славянской традиции — богомилов), которые донесли гностически-манихейскую традицию по крайней мере до позднего средневековья. Согласно богомильским апокрифам, творцом земли является Сатанаил[103].
Мир Сологуба (и особенно мир «Мелкого беса») — мир лжи и кажимости. Эта тема задается уже с первых строк романа:
«Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось» (с. 37)[104].
За внешне упорядоченной жизнью всегда проступает безумие и хаос.
«У Сологуба […] природа — гуща человеческой жизни, природа мифологична. И миф этот не радостный, а очень тяжелый, более того — ужасный. […] Мир действительности есть для него мир Передонова, есть недотыкомка серая»[105].
Выход из этого мира в подлинный мир сущностей видится только в смерти, в «нулевом бытии», своего рода нирване — или же в субъективном мифе, «творимой легенде», которая, по сути дела, есть псевдоним небытия (т. е. небытие и бытие переставляются местами, меняются знаками)[106]. Несколько уточняя Игоря Смирнова, мы могли бы определить интегрирующий мотив сологубовского творчества как «некрологический утопизм»[107].
«Мелкий бес» — несомненно, самое впечатляющее воплощение этого комплекса. Герой романа, Передонов, находится в центре демонического мира и сам одержим дьяволом. На психологическом уровне он предстает как энергумен (бесноватый). Основное содержание книги — история мучительной, растянутой во времени духовной смерти: по меткому замечанию Гиппиус, Передонов — человек, «как-то даже не сходящий, а слезающий с ума»[108]. Близкие параллели к истории Передонова, кстати говоря, можно найти в русской литературе барокко («Повесть о Савве Грудцыне» и особенно «Повесть о бесноватой Соломонии»)[109]. Бахтин справедливо подчеркивал нарциссизм Передонова[110] — т. е. его изолированность, целлюлярность, которая и есть главный признак человека, порабощенного злом («[…] ничто во внешнем мире его не занимало», с. 97). На ином, метафизическом уровне Передонов может рассматриваться как творец этого мира[111], который есть проекция его сознания, — т. е. как Сатанаил либо (манихейский) Ариман:
«Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле, шел Передонов и томился неясными страхами, — и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, — потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою» (с. 141).
Андрей Белый верно указал: «[…] Передонов — только призрак небытия»[112].
Бытие (точнее, небытие) Передонова предстает как ряд деструктивных, антикультурных жестов, как ариманическое пародирование и разрушение знаковости, вселенское пакостничество и порча (с. 57, 101, 141, 186–187, 284, 299, 301, 305, 343 и др.; ср.: «И в разрушении вещей веселился древний демон, дух довременного смешения, дряхлый хаос […]», с. 345). Со структурной точки зрения особенно интересен эпизод, где Передонов выкалывает глаза карточным фигурам (с. 281): мотив ослепления карт (знаковой системы par excellence) сцеплен с мотивом ослепления дома (в нем выбито окно, с. 284–285) и ослепления самого Передонова (у него разбиты очки, с. 277, 285). Пародийна сцена, в которой Передонов рисует у себя на теле букву Я, чтобы Володин не мог его подменить (с. 312–313): эта «знаковая акция» особенно бессмысленна, так как Володина зовут Павел. Существенно, что Передонов, испытывающий отвращение к религиозным ритуалам (с. 299–300), боящийся ладана (типичная черта злого духа в народной демонологии, с. 137), склонен переворачивать эти ритуалы в стиле черной мессы (ср. сцену отпевания, с. 71–72). Его мучительство по отношению к гимназистам может быть легко истолковано как извращение и подмена ритуала инициации[113]. Даже бредовое намерение побрить кота (с. 323–324) имеет параллель в одном из бесовских антиритуалов русского фольклора[114]. Заметим еще, что немалую, хотя и подспудную роль в романе играет «ариманов грех» Манфреда, нарушение основополагающего культурного табу, а именно инцест. Намеки на него обильно рассыпаны в тексте, причем разнообразно замаскированы. Инцестуальность очевидна в отношениях Передонова и Варвары, что уже отмечалось исследователями[115]. Но к инцесту как-то причастны и другие действующие лица. Двусмысленные игры Людмилы и Саши ими самими — не без лукавства — оцениваются как игры сестры и брата (с. 235, 408). Тот же компонент присутствует во взаимоотношениях Надежды Адаменко и Миши (с. 226–227 и др.), Марты и Влади (особенно с. 440–441, где он осложнен садомазохизмом). Передонов грубо намекает, что дружба Рутилова с сестрами не вполне невинна, причем реакция Рутилова на его слова весьма симптоматична (с. 305). Мир «Мелкого беса» до предела насыщен

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
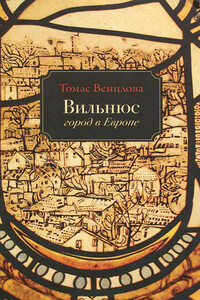
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
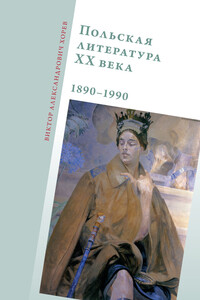
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
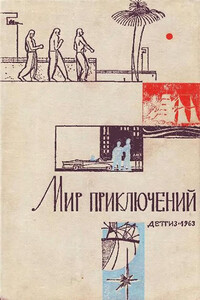
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
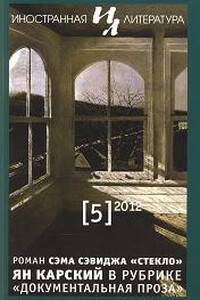
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.