Собеседники на пиру - [16]
Все это стремление к деструкции, к нарушению культурных норм (или, что, по сути дела, то же самое, к установлению мертвого механического порядка, ср. с. 177–178) закономерно ведет к поджогу (с. 400–401) и убийству (с. 415–416) — кощунственной жертве, которая пародирует священную жертву, основное событие христианской истории. Этой жертвой завершается текст романа и безвыходно замыкается его мир — в противоположность Жертве, которая, согласно христианской догматике, привела к размыканию мира и началу подлинной истории. Миф Сологуба оказывается структурной инверсией мифа о спасении.
Этот основной сюжетный ход подкреплен многочисленными, подчас очень тонкими символическими приемами. Указывалось, например, что он повторяется на чисто языковом уровне[116]. В речи персонажей — скудной, переполненной бытовыми, канцелярскими, ораторскими клише, маразматическими «словесными играми» (с. 73, 91, 99, 230, 238–239, 245 и др.), псевдологизмами (например, с. 80), рифмованными упражнениями, пародирующими самый принцип искусства (с. 138–140), постепенно нарастает информационный шум, беспорядок, энтропия, и последняя фраза романа говорит об отмене, исчезновении языка («[…] Передонов сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное», с. 416)[117].
Другой ход, подчеркивающий, что «мир лежит во зле»[118], — частые отсылки к мифологеме первородного греха (кража яблок, с. 154; яблоки на столе у сестер Рутиловых и песня Дарьи «Нагой нагу влечет на мель», с. 209 и т. п.).
Поистине бесовским игрищем, торжеством безобразия и хаоса предстает одно из ключевых событий романа — маскарад, который устраивает антрепренер с выразительным именем Громов-Чистопольский (с. 383). Практически все его участники одеты в костюмы, отсылающие к народной (и не только народной) демонологии. Среди них мы видим Диану (или Гекату, демоническое божество луны, с. 380, 387), медведицу (животное, традиционно символизирующее похоть и отождествляемое с сатаной, с. 385)[119], кухарку (олицетворение адского огня, с. 380), колос (фаллический символ аграрных культов, признанных церковью бесовскими, с. 384), множество иноземцев и иноверцев, которые в русской традиции издавна репрезентируют бесов[120] (с. 382, 384, 386; сюда же относится костюм Саши Пыльникова, с. 379 и др.). Здесь нелишне вспомнить замечания Бахтина о маскараде как вырожденном варианте карнавала, где уже утрачен «возрождающий и обновляющий момент»[121]. Укажем, что в сцене маскарада, по-видимому, присутствуют отсылки к гетевской Вальпургиевой ночи: ср. хотя бы «унылую даму», наряженную ночью (с. 385), сходство Грушиной с раздетой ведьмой у Гёте (с. 380, 386–387), появление на сологубовском маскараде, как и у Гёте, генерала (а именно Вериги, с. 392), особенно же тот факт, что Сашу спасает от толпы персонаж, одетый германцем (с. 386, 397–400).
Но маскарад — лишь предельный случай шабаша, который разыгрывается на страницах «Мелкого беса». Передонов в прямом смысле слова окружен нечистой силой. Нет, по-видимому, ни одного персонажа, который не был бы с ней тем или иным способом связан, тем или иным намеком породнен[122].
«Бесовидность» многих действующих лиц романа уже рассматривалась в литературе о Сологубе. Прежде всего это относится к двум вдовам — Вершиной и Грушиной[123]. Обычно они интерпретируются как ведьмы, колдуньи, но точнее было бы считать их бесами женского пола[124]. Вершина и Грушина — персонажи с намеренно сходными именами — представляют собой контрастную пару[125]; они противопоставлены по многим характеристикам, которые, однако, всегда сохраняют демоническую семантику. Так, Вершина многократно и назойливо связывается с черным цветом и дымом, Грушина — с серым цветом и пылью[126]. Вершина — владелица «отравленного сада» (с. 42–43), наполненного колдовской флорой[127] (инверсия Эдема); Грушина — хозяйка угрюмого дома, где царит «мерзость запустения» и дерзят злые дети, определенно напоминающие чертенят (с. 75, 169–170)[128]. Обе они ворожат, хотя в случае Вершиной это означает заманивание[129] (с. 42, 111, 115, 150, 264), в случае Грушиной — гадание (с. 76–77,149). Показательны и их имена. Фамилия Вершиной[130] связана со словом верша (рыболовная снасть): Вершина есть своего рода «ловец душ» (инверсия евангельского мотива). Фамилия Грушиной связана со словом груша в смысле «кукиш, дуля» (магический и одновременно издевательский жест, реализуемый в сюжетной функции Грушиной — лгуньи и обманщицы).
Ничуть не менее характерна фигура Мурина, которая, насколько нам известно, не привлекала внимания исследователей. На бытовом уровне Мурин — персонаж гоголевского плана: «помещик громадного роста, с глупою наружностью, владелец маленького имения, человек оборотливый и денежный» (с. 77–78), за которого выдают живущую у Вершиной польку Марту (с. 336). Однако мурин («мюрин», «эфиоп») есть постоянное обозначение беса в древней русской литературе[131]. Эта функция Мурина особенно подчеркнута в сцене передоновской свадьбы: он вваливается в церковь растрепанный, с пьяной компанией, хохочет и кощунствует (с. 319–320). Вполне аналогичные описания известны в православной традиции. По житию Пафнутия Боровского, один старец заметил в церкви «некоего мурина, имуща на главе шлем остр зело, сам же клокат от различных цветов клочие имый»

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
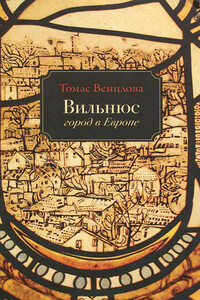
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.