Снегири горят на снегу - [7]
Юрка пьет такую воду каждое утро перед завтраком. Говорит — для профилактики от ангины. Я села на стул. Юрка вернулся, но не вошел, а, опершись расставленными руками о косяки и наклоняя голову, рассматривал меня.
— Так… На моей жене модные брючки. Неотесанность березовых жердей подчеркивает… И этот стул не опрощает, — наоборот… Типичный снимок рижского журнала мод…
— Что бы ты понимал…
— Ну, а какова целесообразность именно таких стульев в этой избе? Объясни…
— Юрка. Красиво же!
— Катя. Ну что ты… Просто модно. Кафе необработанными камнями оформлять, витрины необрубленными корнями. И вот… Видишь? Стихия… Ты как-то говорила о независимости своего вкуса.
— Знаешь, Юрка, это ужасно. Ведь ты сам радовался этим стульям. Я видела, какой ты был, когда их принес. Зачем же сейчас все испортил?
Юрка заулыбался беспечно:
— Завтра я еду в район с председателем. Там лыжи куплю, две пары. Мы с тобой тогда все леса облазим.
Вечером Юрка ушел в клуб — деревенских парней тренировать. Оказывается, он удивительно самоуверен. Не думает, понравится или не понравится мне то, что он делает. Ему надо.
И что странно — я делаю то же. Но меня это уже не приводит в восторг. Мало мы с ним живем… Как это все будет?..
Вечерами я жду его и почти уверена, что проговорим с ним опять о пустяках, о чем-то преходящем. А вот то, чем озабочена я, не становится побуждением к разговору. Его как бы не существует, и я, чувствуя Юркино неведение, бесхитростную непричастность, не заговариваю об этом сама. Будто я — не женщина я, а человек — совершенно ему не интересна. Он меня всю познал. Почему я об этом стала задумываться? Так рано. Давно ли была свадьба?
О своем Юрка рассказывает азартно. И всегда у него получается, будто это все так необходимо, так важно, а послушаешь — окажется пустяком.
Он даже недоумевал и сообщил наставительно:
«А ты?.. Что-то ждать, хотеть… Это должно в тебе оформиться в реальное. Все складывается из обыденного. Я стою на земле. В смысле переносном и буквальном. Я же агроном. Поэтому все хочу пробовать руками».
Мы тогда лежали. Он говорил это и улыбался.
— Ты интуиция. А я хочу, чтобы ты была вещной, — повернулся ко мне и откинул одеяло к ногам.
Когда Юрка пришел пьяным, утром я лежала и долго рассматривала его. У него на губах засохшая белесая каемка, будто остаток пены. Он открыл глаза, пришел в себя и с силой полез целоваться.
— Не смей!..
Он поймал мои руки, растянул, как распял. Придавленная так, я в состоянии была только вертеть головой.
— Ну смилуйся. Не карай.
Я промолчала. Потом сказала в потолок:
— Ты сейчас просто противен.
Он смеялся. Ему казалось — я шучу.
Холодно. Пусть придет. И будет теперь готовить дрова и топить печку каждый вечер сам. А я тоже уйду. За ним следом.
В углу клуба перед сценой круглая печка, обитая жестью. Жесть крашена, и черная краска сально лоснится. Где-то внизу за чугунной дверцей теплится огонь. Из поддувала на пол сыплется зола. Печка кажется холодной, а прижмешься к ней — она бережно согреет варежки, будто трогаешь голенький живот теплого щенка. На полу медленно остывают ноги. Я листаю на столе номера «Огонька». Они без цветных вкладок — кто-то коллекционирует. Зато остались нетронутыми иллюстрации Пинкисевича.
Пришел Саня Равдугин, поставил баян на скатерть, сшитую из старых полотнищ: на вылинявшем сатине скатерти следы пропитавшихся белых букв.
С мороза лакированный корпус баяна отпотел, и Саня протирал его платком.
Он без шапки, в расстегнутом пальто с рыжим воротником. Искусственный воротник уже не рыжий, а бурый. Ходит Саня боком, с опущенным левым плечом — ранен, или баян плечо оттянул?
Саня завклубом и киномеханик. Саня универсален. Он еще ведает радиоузлом. Вон открыл дверь в маленькую комнатку, и по его пальто забегал низовой свет из желтых глазков.
Там его кабинет. Там он рисует на кинопленках световую газету и готовит самодеятельность. Клуб Саня закрывает только на обед. Он всегда в клубе — дома только спит. Вальсы его однообразны и безлики. Может быть, своего сочинения.
Саня поднял баян и издал мехом мощные холостые выдохи.
— Как сыграю с мороза, он начинает хрипеть. Голоса срываются, — сказал он, сосредоточился и стал слушать простуженные басы.
Девчата поднялись на сцену. Свинарка Лида склонилась над журналом, нашла страницы юмора. Пуховый платок шалашом остался у нее на шее. Она рассмеялась, подняла голову, и лицо ее снова ушло в затененную глубину платка.
А глаза какие! Знает она или не знает, что красива?
Грузно заскрипели мерзлые доски на крыльце. Лида встрепенулась. Кто-то распахнул дверь и не закрыл. За дверью мелькали заиндевелые тени — Юркины будущие боксеры. Лида выскочила на улицу. Тренирует Юрка в пристройке клуба. Он отобрал в секцию восемь человек. Ребята в майках, горячие. Пальто свалены на столе.
В комнате разливается сладковатый запах пота. Когда на руках у ребят появляются круглые подушки, Юрка начинает кричать:
— Не открывайся!
Слышатся кожаные шлепки. Молодые парни с красными от мороза лицами какие-то нерастраченные, как молочные телки, кружатся легко, одновременно двумя ногами подпрыгивают вбок и ужасно важничают.
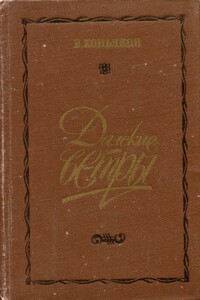
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
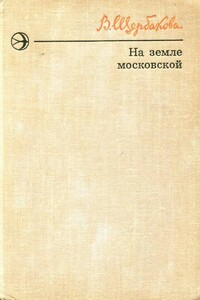
Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
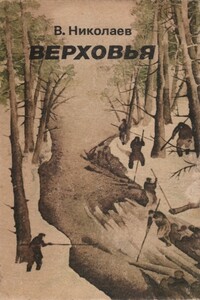
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
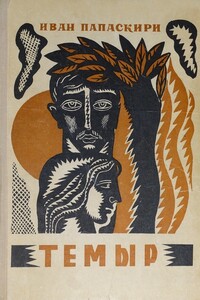
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

Источник: Сборник повестей и рассказов “Какая ты, Армения?”. Москва, "Известия", 1989. Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН.
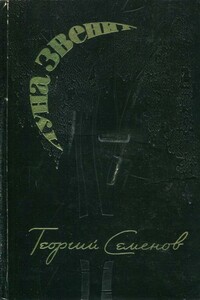
Этот сборник рассказов — четвертая книга Георгия Семенова. Писатель поднимает в своих произведениях острые морально-этические проблемы, но рассказы его не дидактичны, не назойливо нравоучительны, главное для писателя — человеческие характеры, людские судьбы. С. Антонов пишет: «В рассказах Георгия Семенова проходит пестрая галерея интересных персонажей — положительных и отрицательных, хороших и плохих, но тем не менее не примитивных, не плоских, а всегда сложных, требующих внимательного к себе отношения и размышления писателя». Любовь к людям, мягкий лиризм озаряют повествование теплым светом.

Андрей Блинов — автор романа «Счастья не ищут в одиночку», повестей «Андриана», «Кровинка», «В лесу на узкой тропке» и других. В новом романе «Полынья» он рисует своих героев как бы изнутри, психологически глубоко и точно. Инженер Егор Канунников, рабочие Иван Летов и Эдгар Фофанов, молодой врач Нина Астафьева — это люди талантливые, обладающие цельными характерами и большой нравственной силой. Они идут нетореной дорогой и открывают новое, небывалое.

Роман ленинградского писателя Вильяма Козлова «Три версты с гаком» посвящен сегодняшним людям небольшого рабочего поселка средней полосы России, затерянного среди сосновых лесов и голубых озер. В поселок приезжает жить главный герои романа — молодой художник Артем Тимашев. Здесь он сталкивается с самыми разными людьми, здесь приходят к нему большая любовь.Далеко от города живут герои романа, но в их судьбах, как в капле воды, отражаются все перемены, происходящие в стране.Повесть «Я спешу за счастьем» впервые была издана в 1903 году и вызвала большой отклик у читателей и в прессе.
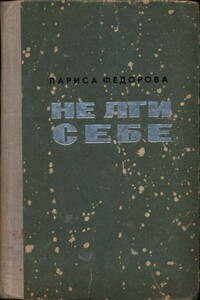
Лариса Федорова — писательница лирического склада. О чем бы ни шла речь в ее произведениях: о горькой неразделенной любви («Не лги себе»), о любви счастливой, но короткой («Катя Уржумова»), о крушении семьи («Иван да Марья»), в центре этих произведений стоят люди, жадные к жизни, к труду, к добру, непримиримые ко всему мещанскому, тусклому. Лариса Федорова родилась в Тюмени. В 1950 году окончила Литературный институт имени Горького. Несколько лет работала разъездным корреспондентом журналов «Крокодил», «Смена», «Советская женщина».