Смута в России. XVII век - [3]
Напряжение сил Московского государства не могло быть бесконечным. Исчерпав все ресурсы, царь Иван Грозный сначала обратился к церковным имуществам. В 1580 году он ввел законодательные ограничения на покупку и дарение монастырям вотчинных земель, «что воинство велие прииде во оскудение»[6]. Спустя несколько лет церковь лишилась налоговых привилегий и были отменены «тарханы». Но и это не помогло поправить положение «воинства», зависевшего не просто от владения тем или иным поместьем и вотчиной, а от наличия рабочих рук. Крестьяне стали покидать своих владельцев, тем более, что у них оставалось право выхода в Юрьев день, подтвержденное 88 статьей Судебника 1550 года. Противопоставить этому потоку людей, искавших лучшей доли, можно было лишь запрет — «заповедные годы». В это время в отдельных частях государства (в многострадальных новгородских землях, например) не действовало право выхода. В итоге самой характерной чертой той эпохи стал общий кризис, поправить который было невозможно какой-либо одной мерой.
Большинство сложных проблем, обрушившихся на Русское государство в конце правления Грозного царя, скончавшегося в ночь с 18 на 19 марта 1584 года, нужно было решать его сыну царевичу Федору, которому перешел царский престол. Царевич Федор стал Московским государем из-за трагической случайности — гибели царевича Ивана от рук отца. Именно царевич Иван Иванович был надеждой царя Ивана Грозного и участником многих его государственных дел. В то время как его младший брат Федор Иванович оставался в тени. С.Ф. Платонов склонен был согласиться с известиями источников о «неспособности» к правлению и «малоумии» царя Федора[7]. А.А. Зимин вовсе писал о Федоре Ивановиче как о «слабоумном»[8]. Хотя однажды, на одном из дипломатических поворотов, в 1575–1576 году царевича Федора прочили ни много, ни мало в великие князья литовские. Фантастичность этого несостоявшегося договора с германским императором очевидна, но еще более фантастичным было бы считать, что Грозный предлагал отправить правителем в Литву больного сына. Участвовал царевич Федор в приемах иностранных гостей, в других дворцовых церемониях. Например, он был «в отца место» на последней свадьбе царя Ивана Васильевича с Марией Нагой осенью 1580 года.
Чаще всего о болезненности и слабости царя Федора вспоминают под влиянием оценок иностранных наблюдателей в Москве и слухов, имеющих источником как раз литовских магнатов (кто знает, может быть, над ними продолжал довлеть призрак несостоявшегося вокняжения царевича Федора в Литве?). Русские источники, делают больший акцент на устранении его от дел и препоручении управления государством своему шурину, брату царицы Ирины Федоровны — Борису Годунову. Те же, кто был враждебен Годунову, прямо обвиняют царского родственника в узурпации власти и даже приводят слухи об отравлении им царя Федора. Возможно, что никаких подозрений по поводу дееспособности царя Федора Ивановича не возникло бы, если бы его род имел продолжение. У царской четы родилась только одна дочь — царевна Феодосия, но она прожила недолго. Потом в Смуту возникнет «самозваный» царевич Петр Федорович. По созданной легенде, якобы, сына царя Федора «обменяли» при рождении на дочь. Однако посвященный в тайны царицыного двора князь Григорий Константинович Волконский клятвенно свидетельствовал на переговорах с Речью Посполитой в 1607 году: «А при государыне царице и великой княгине Ирины были всегда неотступно: мои княж Григорьевы сестры княж Иванова княгиня Козловского да окольничего Ондрея Петровича Клешнина жена; и только бы такое дело сталось, и они б меня в том не утоили»[9].
Дьяк Иван Тимофеев во «Временнике» оставил очень сочувственный портрет царя Федора Ивановича, показав, что тот при жизни старшего брата Ивана не помышлял ни о каком царствовании «о державе надеждою не внемлющему». Такой контраст у братьев, по разному относившихся к власти, объясняется как порядком престолонаследия, так и тем, что один, Иван, копировал отца, а другой Федор — подражал матери Анастасии Романовне («матерних добродетелей причастен по всему»). Даже после того, как Федор Иванович стал царем, его собственные помыслы оставались далеки от мирской суеты, а внутреннее стремление и идеал состояли в монашеской жизни. Поэтому-то он так легко отказался от своего прирожденного царского права в пользу Бориса Годунова, скрыв под царским венцом иноческий подвиг, проводя все дни в молитве, посте: «время всея жизни своей в духовных подвизех изнурив». Эта особенность жизни царя Федора Ивановича подчеркнута и в его «Житии», составленном патриархом Иовом: «тело же убо свое повсегда удручаше церковными пении и дневными правилы, и всенощными бдении, и воздержанием, и постом, душу же свою царскую умащая поучением божественных глагол и вниманием, и благих нрав удобрение украшая прилежно»[10].
14 лет царствования властителя-праведника, по мнению дьяка Ивана Тимофеева, завершились покоем, изобилием и тишиной[11]. Однако это был просто стилистический канон, слова, в которых принято было описывать самых достойных князей по образцу «Степенной книги царского родословия» середины XVI века. Память человека, испытавшего потрясения Смуты, заставила многое забыть и отнестись к прошлому, как едва ли не «золотому веку». Но при всем этом, если бы на русском престоле столько лет оставался полностью недееспособный человек, то это стало бы авантюрой посильнее, чем явление самозваного царевича Дмитрия. И уж естественно, что мимо такого обстоятельства не прошли бы публицисты Смутного времени, а они согласно говорят об образе царя-праведника Федора Ивановича, ставшего потом еще и образцом для Михаила Федоровича — первого царя из династии Романовых.
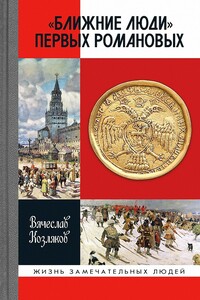
Люди, приближенные к царствующим особам, временщики и фавориты имелись во все эпохи, независимо от того, как назывался правитель: король, царь или император. Именно они зачастую творили политику, стоя за спиной монарха или обсуждая с ним с глазу на глаз самые злободневные государственные вопросы. На Руси их называли «ближними людьми». О трех таких «ближних людях» XVII столетия рассказывает в своей новой книге известный историк Вячеслав Николаевич Козляков. Героями книги стали «первый боярин» царя Михаила Федоровича князь Иван Борисович Черкасский, воспитатель царя Алексея Михайловича боярин Борис Иванович Морозов и «великий канцлер», «русский Ришелье» Артамон Сергеевич Матвеев.
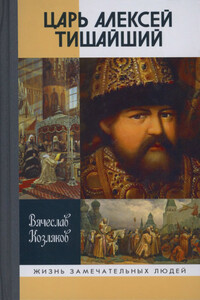
Царь Алексей Михайлович — главный человек XVII века в России. В его судьбе сошлись начала и концы столетия, названного «бунташным», а прозвище первого наследника династии Романовых у современников оказалось — «Тишайший». Обычно если его и вспоминают, то как отца Петра Великого: действует магия контраста двух веков — XVII и XVIII. Но ведь и само тридцатилетнее царствование Алексея Тишайшего (1645–1676) стало эпохой великого переустройства. Центральные его события — так называемое «воссоединение» России с Белоруссией и Украиной (увы, как выясняется, совсем не «навеки») и почти забытая ныне Русско-польская война 1654–1667 годов, предопределившая исходную расстановку сил в международных отношениях, доставшуюся Петру I, и сделавшая возможным «европейский выбор» России.
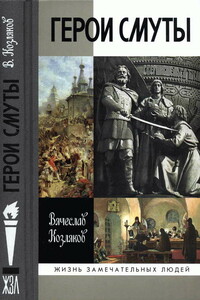
Смута, однажды случившись, стала матрицей русской истории. Каждый раз, когда потом наступало «междуцарствие», будь то 1917 или 1991 год, разрешение вопроса о новой власти сопровождалось таким же стихийным вовлечением в историю огромного числа людей, разрушением привычной картины мира, политическим разделением и ожесточением общества. Именно по этой причине Смутное время привлекает к себе неослабевающее внимание историков, писателей, публицистов, да и просто людей, размышляющих о судьбах Отечества.Выбрав для своего рассказа три года, на которые пришелся пик политических потрясений первой русской Смуты, — с 1610 по 1612/13 год, — автор книги обратился к биографиям главных действующих лиц этого исторического отрезка.
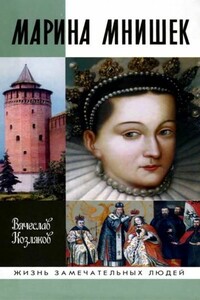
Марина Мнишек – одна из самых ярких фигур русской Смуты начала XVII века. Полька, ставшая женой двух самозванцев и первой венчанной на царство русской «императрицей», она сумела вызвать к себе жестокую ненависть своих подданных. Ее считали главной виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на Русское государство, воплощением зла, еретичкой и даже колдуньей. Автор книги, опираясь на документы из русских и польских архивов, попытался дать более взвешенный портрет Марины, взглянуть на нее не столько как на злодейку, сколько как на жертву трагических обстоятельств, а заодно задаться вопросом: что именно сумела привнести в русскую историю эта незаурядная женщина? Молодая гвардия, 2005.
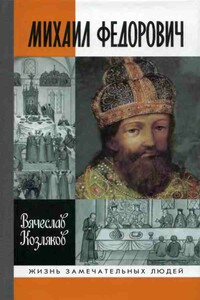
Россия после Смуты — главная тема этой книги. Царь Михаил Федорович, основатель династии Романовых, правившей Россией более трехсот лет, взошел на престол пятнадцатилетним отроком и получил власть над разоренной, истекающей кровью и разорванной на части страной. Как случилось так, что Россия не просто выжила, но сумела сделать значительный шаг вперед в своем развитии? Какова роль в этом царя Михаила Федоровича? Соответствует ли действительности распространенное в литературе мнение, согласно которому это был слабый, безвольный правитель, полностью находившийся под влиянием родителей и других родственников? И в какой мере это было благом или, наоборот, несчастьем для России? Автор книги дает свои ответы на эти и другие вопросы.
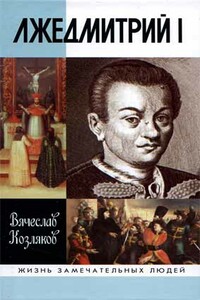
Этот человек имел несколько имен. В разное время его знали то как Юшку Отрепьева, то как чернеца Григория, то как царевича, а затем царя и великого князя Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана Грозного, то как «Расстригу» и «Самозванца», лишенного даже имени и изверженного из мира. Летописи как минимум трижды сообщают о его смерти, и всякий раз смерть эта влекла за собой беды и потрясения для Московского государства. Не имевший шансов даже приблизиться к вершинам власти, он занял в конце концов престол московских государей и был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех священных обрядов.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.
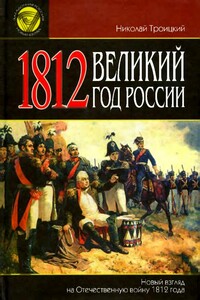
В книге доктора исторических наук Н. А. Троицкого «1812. Великий год России» впервые предпринят критический пересмотр официозно-советской историографии «Двенадцатого года» с ее псевдопатриотическими штампами, конъюнктурными домыслами, предвзятым истолкованием причин, событий и даже цифири «в нашу пользу». Тщательно воспроизведенная хроника событий, поверенная множественными авторитетными источниками, делает эту книгу особенно ценным пособием по истории Отечественной войны 1812 года.