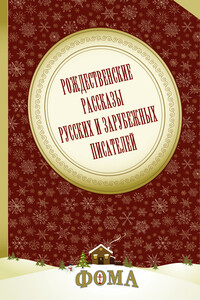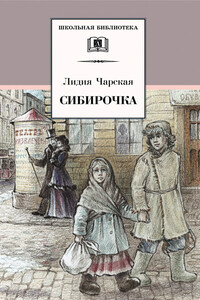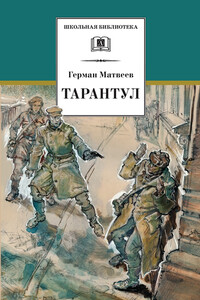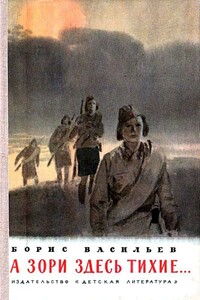– Понял, господин корнет, и не замедлю исполнить ваше желание, – бойко отвечала Надя, с самым веселым видом глядя в лицо корнета.
Вся грусть девушки разом куда-то исчезла: ей было и весело, и смешно в эту минуту. И в самом деле, не забавную ли шутку сыграла с ней проказница судьба? Ей, слабенькой, юной девушке, доверяли на попечение большого мальчика, почти юношу, вверяли его ее охране и защите… О, если бы он знал, тот же корнет Линдорский, какого покровителя приобретал в ее лице красавчик Юзек! И это пустячное обстоятельство вдохнуло, казалось, новый запас энергии и бодрости в юное и смелое существо Нади.
– Ну-с, пан Юзеф, – весело обратилась она к юноше, – вы слышали, что говорил господин корнет, а потому извольте отныне повиноваться мне беспрекословно. Я стою на квартире в Мовшиной харчевне, не угодно ли вам перекочевать ко мне с сегодняшнего же дня, новый товарищ?
– Хорошо, будь по-вашему, – тем же безучастным тоном отвечал Юзеф, и лицо его по-прежнему выражало не то апатию, не то грусть.
– Ну и отлично! Молодец вы, Дуров! По всему видно! – похвалил Надю Линдорский. – А теперь вам надо идти в швальню[26], где вас оденут в полную уланскую форму. Не хотите ли, чтобы я последовал за вами?
– Разумеется! – весело воскликнула Надя.
Пан Линдорский ей нравился все больше и больше своей живостью и неподдельным весельем, так и бившим ключом.
И все трое снова замесили жидкую весеннюю грязь, бодро шагая по кривой узкой улице, ведущей к кварталу, занятому под стоянку Коннопольским уланским полком.
Глава II
Первые тернии. – Письмо на родину
– Нет, это невозможно, какая пытка! Ну, не нелепость ли со стороны дяди Канута запрягать меня в ярмо, как ленивого вола!
И бледный, измученный Юзек Вышмирский выпустил тяжелую пику из рук и в изнеможении опустился на мягкую весеннюю траву, обильно покрывающую широкий плац, где производились военные упражнения новобранцев.
Полковой дядька, взводный Спиридонов, обучавший строю и военной выправке всех завербованных коннопольским отрядом, и в том числе наших героев, Надю и Вышмирского, с нескрываемой жалостью взглянул на статного, беленького, как сахар, уланчика, которому было не под силу выполнение трудных солдатских приемов.
– Эх, сердешный, сидеть бы тебе у маменькиной юбки, а то нет, полез в солдатчину, туда же! Уж какая тебе, сударь, служба! В чем душа держится, а он, на тебе, солдат тоже!
И бравый взводный даже решительно сплюнул в сторону, что означало у него крайнее негодование.
Но если холеный польский паныч не оправдал его ожиданий, то другой новобранец, уже более часа размахивающий тяжелой дубовой пикой, вполне заслуживал одобрение дядьки Спиридонова. И то сказать, это какой-то бесенок в уланской одеже. Сам – тоненький, статный, с узким перехватом в талии, как тебе у черкеса али у заправской девицы, а силища-то и терпение так и брызжут из него!.. На нем, поверх мундира с малиновыми отворотами и белыми эполетами, надета кожаная перевязь с подсумком, наполненным патронами. На голове высокая малиновая шапка с узким волосяным султаном[27], на ногах, поверх рейтуз, тяжелые солдатские сапоги.
Наряд этот вовсе преобразил Надю. В нем она стала как-то еще выше, стройнее. Она словно выросла за последнее время, словно преобразилась. За эти три недели, проведенные в постоянном ученье на плацу или в манеже под надзором того же неутомимого дядьки, смуглое лицо ее обветрилось и загрубело; покрытое густым слоем весеннего загара, оно окончательно потеряло последние следы женственности.
Но, несмотря на свой бодрый, сильный вид, Надя переживала в глубине души невообразимые муки. Новая жизнь с ее трудными требованиями нелегко давалась бедной девушке. Женская, хотя бы и выносливая, натура в конце концов дает себя знать. Эти военные упражнения, трудные и для солдата, измучили до полусмерти все ее юное, почти детское существо. Тяжелая дубовая пика оттягивает руки и давит плечо до ломоты в костях, до нестерпимой боли. Рукоятка громадной бряцающей сабли едва помещается в маленькой девичьей руке. Но что хуже всего – так это сапоги.
О, эти ужасные сапоги! Они, как орудия пытки, тисками сжимают узкие девичьи ножки. Надя с трудом волочит их по земле. Ее пальцы вспухли и посинели. Тяжелые, как кандалы, сшитые на любую солдатскую ногу, эти ужасные сапоги похожи скорее на громадные ялики[28] и тяжелы, как пудовые гири.
Сегодня проклятые сапоги особенно досаждают Наде. И пика как-то особенно дервенит руку и вовсе не повинуется ей. А тут еще этот Юзек довершает мучение своими жалобами. Ах этот Юзек! И без того ей приходится нелегко!
Надя с досадой отшвыривает пику и подходит к юноше.
– Слушай, Вышмирский, это несносно! – говорит она раздраженно. – Ты мне вытягиваешь душу своими стонами. Не ной, пожалуйста, по крайней мере, или ступай к Казимирскому просить отставки.
– Хорошо тебе говорить это! – произносит измученным голосом несчастный мальчик. – Ты вольная птица; хочешь служить – служишь, не хочешь – уйдешь. А каково мне?! Мой опекун-дядя хочет во что бы то ни стало, чтобы я дослужился в кавалерии до офицерского чина. А какой я солдат-кавалерист, Саша, посуди сам! Взгляни на эти руки! Разве им под силу этот собачий труд?