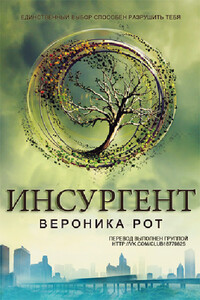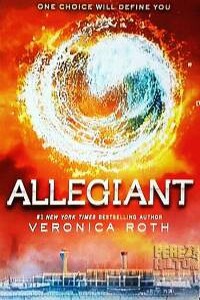Она положила руки на пианино, на октаву выше Кристофера, и сыграла, так хорошо, как только могла, ту часть смертной песни матери, которая вертелась у нее в голове с прошлого вечера. Она идеально подходила к отрывку ее жизненной песни. Это была не совсем гармония, но и не совсем копия — некоторые моменты повторялись, а другие ложились поверх ее песни и этим контрастом выявляли ее яркость, и снова что-то было похоже, но звучало на секунду позже, будто песня ее матери гонялась за ее собственной по пианино.
И она осознала, что ее мать была такой же, как она — злой, слабой, трудной, чувствительной — все хорошее и плохое, соединенное в этой песне делало песню Дарьи еще прекрасней. Дарья никогда раньше не видела схожести, но она была — запрятанная, но проявляющаяся во время редких просветов в сознании матери, проявляющаяся в воспоминаниях Кали о женщине, которую Дарья едва знала, а теперь проявляющаяся в самой Дарье.
Она почувствовала, как улыбается, а затем смеется, а затем и плачет, и затем и все сразу.
— Она не то, чтобы красивая, — сказал Кристофер, играя последнюю ноту на последней странице. Он взглянул на нее. — Я не хотел тебя обидеть. Я очень к ней привязался. Она продолжает меня преследовать.
Когда она не ответила, он слегка встревожился.
— Прости, это было обидно?
Дарья покачала головой и положила левую руку поверх его правой, направляя к нужным клавишам. Его пальцы грели ее. Он глянул на нее, слегка улыбнувшись.
— Сыграй это еще раз, — тихо сказала она, указав на место, где начинался тот отрывок. Она убрала руки с пианино и слушала, как Кристофер снова исполнил этот отрывок. Она закрыла глаза и, не замечая этого, начала покачиваться в такт музыки.
Она была не права, когда сказала, что смерть это тайна, а жизнь — нет.
Смертная песня матери показала ей скрытую красоту внутри нее, о которой знала Кали, но чего не замечала Дарья из-за злобы.
Злоба не покинула ее, возможно никогда не покинет, но теперь ей приходилось соседствовать с чем-то другим — с непоколебимым знанием о достоинствах матери.
Конец