След - [9]
Я переворачиваюсь, и в августовский день 1921 года турецкий пароход «Рашид-паша» швартуется в порту Варны, я уже в Болгарии.
Лукьянов — дорожный рабочий. Мы роем дорогу в горах. Братья болгары, бедные, веселые. «Пей, Иван, кисло млеко! Русия — наша майка», мать.
Кон до коня, мила моя майньо льо, юнак до юнака…
Бой да правят, мила моя майнью льо, със неверни турци…
И я пою с ними эту старинную воинскую песню про поход царя Ивана Шишмана, похожую на наши песни своим грозным мужеством.
Мои болгары погибли в сентябрьском восстании. Наша гражданская война настигла меня, поставив в один ряд с теми, против кого я воевал.
Село широко раскинуло белые глинобитные дома вдоль пыльных улиц, оно было беззащитно против колонны правительственных войск, хотя крестьяне и дорожные рабочие отстреливались из-за низких каменных заборов. Я не вмешивался, сидел в корчме вместе с хозяином, корниловским офицером Бойко, который недавно женился на дочери корчмаря. За час все было кончено. Нас с Бойко вытолкали на улицу, не слушая, что мы русские и держим нейтралитет. Черноусый, рослый, одетый по-болгарски Бойко в своих суконных шароварах, белой рубахе, безрукавке и кожаных сандалиях-царвулях казался вылитым болгарином. Я же был в дешевом костюме и старой фуражке без кокарды. Но мы услышали родную речь.
— Господа! — крикнул Бойко.
Нас вытащили из толпы пленных. Подпоручик Бойко и прапорщик Лукьянов не были расстреляны, как животные.
— Опустились вы, господа, в Задунайской провинции! — сказал один каратель. — Молитесь богу, что встретили нас.
И вот я говорю лекарю болгарской сельской больницы Лобанову:
— Я возвращаюсь домой. Советы объявили амнистию. Давай вместе.
Дельтапланерист парит над строящейся дорогой, улетает и возвращается. По сухой земле скользит быстрая орлиная тень. Надо мной кружит и кружит орел…
Я проснулся, лежу и слушаю ночные звуки. Я дома. Я давным-давно дома. Живой, старый, навидавшийся смертей. В проеме тяжелых штор уже зеленеет небо.
Полуправда сна все еще держала меня. Я медленно вспоминал возвращение, арест, проверку. Отчим поручился за меня. Мне выдали паспорт.
В июле сорок первого года я был призван в Красную Армию и оставлен в распоряжении наркомата тяжелой промышленности. В августе эвакуировал из Донбасса шахтное оборудование и взрывал шахты. Несколько дней над городом стоял гулкий стон взрывов.
Однажды мне пришлось уничтожать немецких десантников. Я лежал с винтовкой на железнодорожной насыпи, и вдруг почудились галлиполийские камни, ящерица, далекая гряда островов. Я задержал дыхание и тщательно целился…
Поздней осенью сорок третьего года я вернулся из Кузбасса на пепелище. Города не было. Я мог его угадать, лишь читая промокший от дождя транспарант на закопченной стене: «Из пепла пожарищ, из обломков развалин возродим тебя, родной город!» Это была клятва со сжатыми зубами. И я стал одним из солдат восстановления. Друг мой Лобанов, мы работали под землей по двое-трое суток, но это тебе ничего не объяснит. «На то и война», — скажешь ты. Вот что, душа Лобанов, представь группу шестнадцати-, пятнадцатилетних девочек, детей по нынешним меркам. Они расчищали шахтный двор. Мороз, ветер. Нескольких направляют к стволу помочь мужикам. Из глубины поднимается грузовая клеть с вагонеткой, им надо вытолкнуть ее на рельсы. Они толкают и ревут — в вагонетке полуразложившиеся трупы казненных. Толкают и ревут…
Мы с Любой читаем мальчику на ночь. Я чаще, Люба реже. Виташа лежит в красной пижаме, умытый и причесанный. Он вытягивается, кладет руки под голову, показывая, что приготовился спать, и с радостным нетерпением смотрит, как я сажусь перед ним на низенький стул. Сна нет ни в одном глазу.
— В русском царстве-государстве жил богатырь Илья Муромец. Он был большой и сильный, только ноги у него не ходили. И сидел он беспомощный на печке. А на русское царство-государство напал Соловей-разбойник и побил все русское войско. Земля сделалась красной от крови, даже листья на деревьях росли красные. Отец Ильи Муромца был старый дедушка. И он стал собираться на бой с Соловьем-разбойником. Хочет поднять меч, а сил нету. И плачет. Позвал он свою молодость, чтобы вернулась она к нему хотя бы на один день и дала ему силу сразиться.
Я останавливаюсь и думаю: а что же дальше? Хочется рассказывать о старике, а не о богатыре Илье. Виташа серьезно глядит на меня, словно все понимает. Но проторенная колея не позволяет уклониться. Богатырь совершает свои подвиги, а о старике больше речи нет.
Побежден Соловей-разбойник, отрублены головы дракона, посрамлен спесивый киевский князь, — и я встаю со стульчика, иду гасить свет.
— Уф! — огорченно говорит мальчик. — Спокойной ночи.
Что останется в нем от моих сказок? Спустя некоторое время мы сидим на тахте и играем в морское сражение. Вражеский флот окружает наш крейсер, помощи ждать неоткуда. Что делать, Виташа?
— Убегать?
— Нет, на войне убегать нельзя. Будем драться.
Палим из всех пушек, маневрируем машиной, тушим пожар. Виташа спрыгивает на пол и рубит пластмассовым мячом воздух. Враги отступают.
Вообще-то он часто отвлекает меня от работы. Я хочу издать свои лекции по курсу «Основы научных исследований», сижу над рукописью, а дверь запираю на защелку. Когда Виташа начинает стучаться, я строго говорю, что он мешает.
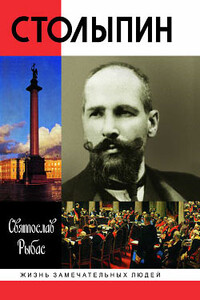
Документально-исторический роман о Великом Реформаторе Петре Столыпине (1862–1911), яркой личности, человеке трагической судьбы, вознесенном на вершину исполнительной власти Российской империи, принадлежит перу известного писателя и общественного деятеля С. Ю. Рыбаса. В свободном и документально обоснованном повествовании автор соотносит проблемы начала прошлого века (терроризм, деградация правящей элиты, партийная разноголосица и др.) с современными, обнажая дух времени. И спустя сто лет для россиян важно знать не только о гражданском и моральном подвиге этого поразительного человека, но и о его провидческом взгляде на исторический путь России, на установление в стране крепкого державного и конституционного начала.
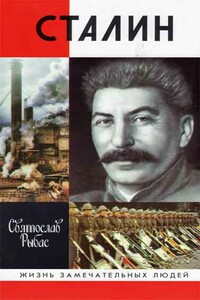
Сталина называют диктатором, что совершенно точно отражает природу его тотальной власти, но не объясняет масштаба личности и закономерностей его появления в российской истории. В данной биографии создателя СССР писатель-историк Святослав Рыбас освещает эти проблемы, исходя из утверждаемого им принципа органической взаимосвязи разных периодов отечественного исторического процесса. Показаны повседневная практика государственного управления, борьба за лидерство в советской верхушке, природа побед и поражений СССР, влияние международного соперничества на внутреннюю политику, личная жизнь Сталина.На фоне борьбы великих держав за мировые ресурсы и лидерство также даны историко-политические портреты Николая II, С.

Повесть "Зеркало для героя" - о шахтерах, с трудом которых автор знаком не понаслышке, - он работал на донецких шахтах. В повести использован оригинальный прием - перемещение героев во времени.

В книге Святослава Рыбаса представлено первое полное жизнеописание Андрея Громыко, которого справедливо называли «дипломатом № 1» XX века. Его биография включает важнейшие исторические события, главных действующих лиц современной истории, содержит ответы на многие вопросы прошлого и прогнозы будущего. Громыко входил в «Большую тройку» высшего советского руководства (Андропов, Устинов, Громыко), которая в годы «позднего Брежнева» определяла политику Советского Союза. Особое место в книге занимают анализ соперничества сверхдержав, их борьба за энергетические ресурсы и геополитические позиции, необъявленные войны, методы ведения дипломатического противостояния.

В повести «На колесах» рассказывается об авторемонтниках, герой ее молодой директор автоцентра Никифоров, чей образ дал автору возможность показать современного руководителя.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
