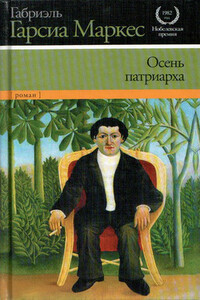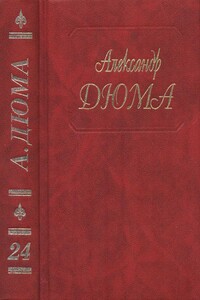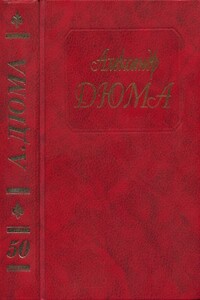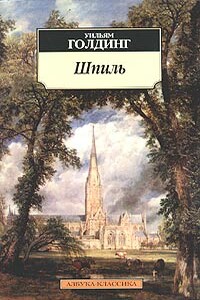— Святой Илларион[21].
Не умывшись и не помолившись, падре оделся. Поправив на сутане длинный ряд пуговиц, он надел потрескавшиеся туфли, которые он обувал ежедневно, — их подошвы уже отваливались. Открыв дверь и увидев туберозы, он вспомнил слова песни.
— «В твоих снах я остаюсь до самой смерти», — проговорил он и вздохнул.
Когда он ударил в колокол в первый раз, в боковую дверь вошла Мина. Она направилась к купели: там стояли пустые мышеловки с нетронутым сыром. Падре Анхель отворил дверь, выходящую на площадь.
— Какая досада, — сказала Мина, потряхивая пустой картонной коробкой. — Сегодня не попалась ни одна.
Но падре Анхель пропустил ее слова мимо ушей. Разгорался великолепный, ясный день, словно оповещавший: и в этом году, несмотря ни на что, придет в свое время декабрь. Сегодня, как никогда, падре Анхель остро ощутил: Пастор замолчал навсегда.
— Ночью слышалась серенада, — сказал он.
— Да, пели пули, — подтвердила Мина. — Только совсем недавно стрельба прекратилась.
Падре впервые посмотрел на нее. Как и ее слепая бабушка, она тоже была очень бледной и тоже носила голубую ленту светской конгрегации. Но, в отличие от Тринидад, бывшей немного мужеподобной, в ней начала уже расцветать женщина.
— Где стреляли?
— Везде, — ответила Мина. — Они словно с цепи сорвались: все искали листовки. Говорят, в парикмахерской вскрыли пол и обнаружили оружие. Тюрьма уже переполнена, и еще говорят: мужчины уходят в горы — в партизанские отряды.
Падре Анхель вздохнул.
— А я ничего не слышал, — сказал он.
Он пошел в глубину церкви. Мина молча последовала за ним к главному алтарю.
— Но это еще не все, — сказала она. — Ночью, несмотря на комендантский час и стрельбу…
Падре Анхель остановился и осторожно посмотрел на нее своими чистыми голубыми глазами. Мина с пустой коробкой в руках тоже остановилась и, прежде чем закончить фразу, нервничая, улыбнулась.