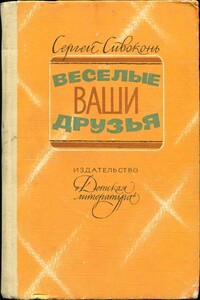Скрытые инструменты комедии - [71]
Е. СОБАКА СЛЕПОГО, ПОСКОЛЬЗНУВШАЯСЯ НА КОЖУРЕ ОТ БАНАНА, представляет собой комедию отчуждения, или современную комедию. Заслышав слово «слепой», вы думаете: «О нет, еще одна шутка о слепом! Мне и первая не понравилась... Минутку, не о слепом, а о собаке? Это уже намного лучше!» Хоть мы и переключились на собаку, шутка-то все равно о слепом. Точно так же Морт Сал появлялся с экземпляром «Нью-Йорк Таймс», и в этом заключался его номер; испытания атомной бомбы, холодная война с Россией, Джозеф Маккарти — словом, все, что нас пугает, Стив Мартин появляется с торчащей из головы стрелой; это все та же шутка о том, что мы смертны, но она настолько остранена — и абсурдна, — что современный зритель ее понимает.
Г. ЧЕЛОВЕК, ПОСКОЛЬЗНУВШИЙСЯ НА КОЖУРЕ ОТ БАНАНА, ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОТЕРЯЛ РАБОТУ. Это моя самая любимая ситуация. И вовсе не потому, что она самая смешная. А потому, что, если вы можете заставить людей смеяться над бессчетными трудностями, которые на них обрушиваются и реально влияют на их жизнь, это и есть подлинное искусство. Это комедия Чаплина, Китона, Лорела и Харди, Фрэнка Капры в фильме «Эта замечательная жизнь» (It’s a Wonderful Life), это такие фильмы, как «Теленовости» (Broadcast News) и «500 дней лета» ((500) Days of Summer).
Среди этих предложений всего два не-комичных — первое и последнее.
А. ЧЕЛОВЕК, ПОСКОЛЬЗНУВШИЙСЯ НА КОЖУРЕ ОТ БАНАНА — потому что такой комедии недостает деталей. В пьесе Тре-вора Гриффитса «Комедианты» старый актер-комик, обучающий своему ремеслу взрослых людей, говорит: «Комик рисует картину мира; чем пристальнее смотрит, тем лучше рисует». Отсутствие деталей — вот что отличает будничное от комического. В фильме «Ханна и ее сестры» (Hanna and Her Sisters) персонаж Вуди Аллена боится, что у него неоперабельный рак мозга. Среди ночи он выпаливает молитву Богу: «Я не хочу... кончить так, как парень в шерстяной шапочке, рассыльный в цветочном магазине». Такая пронзительная деталь и конкретика придают блеск этой реплике. Представьте, если бы это звучало следующим образом: «Я не хочу кончить, как какой-то идиот!» Жесткий современный комик может усилить реплику, добавив нецензурщину: «Я не хочу кончить, как какой-то долбанный дебил!» Он может также пошутить: «Я не хочу кончить, как какой-то монгольский недомерок!» Конкретика, к которой обращается Аллен, позволяет нам понять степень и глубину его обеспокоенности и полностью сфокусироваться на его комическом ужасе. Комедия без деталей приходит в упадок, перерождается в школу комедии «Уолтер Кранкейс»[44], где шутки создаются с помощью каламбуров, глупых прозвищ или прямых оскорблений.
И для некоторых Ж. ЧЕЛОВЕК, ПОСКОЛЬЗНУВШИЙСЯ НА КОЖУРЕ ОТ БАНАНА, УМИРАЕТ — самый смешной вариант. Я не спорю с ними, ибо они правы, если полагают, что это смешно. Это смешно для них. (С другой стороны, пункт Ж — выбор большинства французских нигилистов.) Но, я думаю, не смерть лишена комизма, а смерть надежды. Смерть сама по себе может быть невероятно смешной (если, конечно, она приходит не к вам); но даже в смерти должен быть элемент надежды. До некоторой степени комедия — это рассказ о людях, которые имеют глупую, бесполезную, идиотскую, неуместную надежду и действуют, принимая ее за основу. Безумные, нелогичные действия основаны на самой хрупкой надежде (Вуди Аллен — людям, которые хотят его убить: «Эй, ребята, не стреляйте в меня! У меня кровь плохо сворачивается! Я весь ковер испорчу!»).
Возьмем для примера фильм «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» (It’s A Mad, Mad, Mad, Mad World), довольно несмешное кино 1963 года, где снимаются самые смешные комики 50-х и 60-х. В самом начале фильма мы видим Джимми Дюранте, который играет вора, укравшего бриллианты и скрывающегося от закона. Он несется на авто над тихоокеанским побережьем, пытаясь оторваться от копов. Вслед за ним едет целая кавалькада комиков того времени: Милтон Берл, Сид Сизар, Джонатан Уинтерс, Бадди Хэкетт, Мики Руни и прочие. Вор объезжает опасную скалу... пропускает поворот... его выбрасывает из машины, а сама машина летит со скалы. Увидев аварию, масса других персонажей спешит вниз по скалистому, открытому ветрам спуску. И вот перед ними лежит умирающий вор. С натужным хрипом он рассказывает, где спрятаны украденные бриллианты: «Под большой буквой «дубль вэ»!» А затем, умирая, в предсмертной судороге выбрасывает вперед ногу и пинает ведро, которое летит вниз по склону, чем вызывает изумление и потрясение очевидцев.
Обычно сцена эта вызывает смех, но вопрос: почему? Над чем мы смеемся? Над смертью человека? Неужели мы столь жестоки, что смерть человека, пусть и с таким носищем, может вызвать у нас смех? Кто-то из слушателей пытается оправдаться: «Ну, мы смеемся не над смертью человека, а над игрой слов, ведь он буквально «толкнул ведро»[45]». Ладно, допустим, речевой штамп претворен в жизнь.
Но представим себе альтернативный вариант сцены: оторвавшись от преследователей, вор с бешеной скоростью несется среди скал над Биг-Суром. Его машина слетает с холма, когда рядом с ним никого нет, и никто этого не видит. Здесь, на каменистом склоне, в одиночестве, он умирает, и в это мгновение его нога судорожно отбрасывает стоящее рядом ведро, которое катится вниз по склону.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
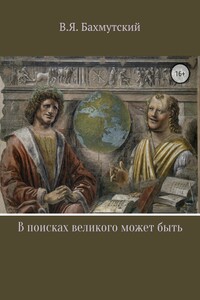
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.