Скрипты - [20]
Я взял смелость обратить внимание на исторический роман, как на такой вид творчества, где художнику не надо искусственно глупеть, но где таятся возможности юношеской свежести повествования и вымысла. Приходилось уже говорить о роли вымысла в этом жанре, но вопрос о нем надлежит понимать шире. Историю мы воспринимаем как эквивалент вымысла. Рассказ и история в некоторых языках до сих пор, кажется, обозначаются одним словом. Г-жа Простакова, уверявшая, что ее Митрофанушка был «сызмальства к историям охотник», — не так уж сильно погрешила, смешав историю с побасенкой. Исторический материал, лежащий в основе повествования, можно уподобить радиоактивной урановой руде. Он сам по себе обладает эстетическими свойствами. Не потому ли Флобер «до безумия» любил историю? Он был, конечно, неправ, думая, что «эта любовь — нечто новое в человечестве», что историческое чувство существует [61] со вчерашнего дня и, может быть, это лучшее, что принес XIX век. Историческое чувство существует с незапамятной древности, только в ранние времена его трудно бывает отделить от легенды и мифа. О XIX веке, напротив, можно сказать, что это чувство у него притупилось, несмотря на блестящее развитие исторической науки. Восторжествовало чувство «современности», «живой действительности». Можно ли, например, Чехова представить автором исторического романа? Б. К. Зайцев опубликовал интересный фрагмент своей работы о Чехове.[4] Антон Павлович за границей. В первый раз после грачей, чернозема, почтовых чиновников, извозчиков и Каштанок, увидел готику, Сан Марко, дворец Дожей, Флоренцию, Рим, словом, историю. И оказалось, что «Рим похож, в общем, на Харьков». Правда, по словам Б. К. Зайцева, Италия произвела на Чехова сильное впечатление, но куда делись острые чеховские штрихи и мазки, меткие словечки и определения, что так поражают в его рассказах и письмах, когда речь идет о России, о родной жизни и природе? В приведенных отрывках из заграничных писем чувствуются либо робкие и неудачные попытки подсмеять хваленую красоту исторических мест («А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером можно с непривычки умереть»), либо искренняя, но совсем простецкая восторженность: «Здесь собор св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и здания, по которым я чувствую, подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь». Разве этот плоский жеваный язык — Чеховский? Перед историей вежливо раскланялись, но слов для нее не нашли. Кому Рим, а кому — Харьков. Потому-то Антон Павлович и не любил «тех мест, где Наполеон». «Историческое чувство» у него, как у большинства писателей XIX века, атрофировано. Только немногие, вроде Флобера, которого еще Э. Золя определил как романтика среди реалистов, — хранили его и теплили, как священный огонь.
Когда М. М. Карпович утверждает, что «в начале XIX века расцвет исторического романа был связан с подъемом национализма и с романтизмом», в этом слышится не столько констатация факта, сколько похоронный звон по историческому повествованию. Ему, де, так же трудно воскреснуть, [62] как питавшему его романтизму. Но ведь именно романтизм-то и неистребим в литературе; исчезновение его равносильно исчезновению самой поэзии. Он постоянно воскресает в виде мощных литературных движений, вроде символизма, и постепенно обновляет поэзию. Сомнения в оправданности исторического романа как особого рода литературы порождены реалистическим девятнадцатым веком, захотевшим видеть в реализме «основной метод искусства и литературы».
У М. М. Карповича чувствуется слегка снисходительное отношение ко второй четверти XIX века, когда Вальтер Скоттом «мог интересоваться и восхищаться Пушкин». Выходит, что Пушкину такое увлечение, как будто, не к лицу. «Серьезная» литература второй половины XIX столетия, действительно, так думала и даже бранила поэта. Но в наше время позволительно отнестись к нему иначе. Имя, все-таки, не маленькое — Пушкин. А ведь к нему надо присоединить и имя Гоголя, и имя Жуковского, да едва ли не все дорогие нам имена первой половины прошлого века. Писал же Белинский, что Гоголь «вышел из Вальтер Скотта, из того Вальтер Скотта, который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя, но без которого Гоголь никак не мог бы явиться». Нас сейчас коробит, когда тот же Белинский ставит Гоголя «не ниже» Вальтер Скотта, но сам Гоголь принимал это за великую честь. Что это означает, литературную незрелость эпохи или особое чувствование искусства, отличное от чувствования его во второй половине того же XIX века? Не будем впадать в соблазн разрешать этот вопрос. Если это, в самом деле, незрелость — она мила нам, как пора цветения, как детство, к которому обращают взор тем чаще, чем ближе к старости. По-видимому, пушкинская эпоха и соотвествующие ей эпохи на Западе, стояли ближе к источникам поэзии, чем наше «серьезное» и «зрелое» время. И не остался ли единственным мостиком, соединяющим нас с этой эпохой — исторический роман, заключающий в себе «серьезность», без которой мы уже не можем обходиться, и в то же время — прелесть сочинений для юношества? [63]
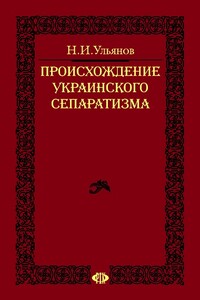
Николай Иванович Ульянов (1904—1985) — русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Результат его 15-летнего труда, книга «Происхождение украинского сепаратизма» (1966) — аргументированное исследование метаполитической проблемы, уже не одно столетие будоражащей умы славянского мира по обе стороны баррикад. Работа, написанная в своеобразной эссеистической манере, демонстрирующая широчайшую эрудицию и живость ума, не имеющая себе равных в освещении избранного предмета исследования,— не смогла быть опубликована в США: опережающие публикации ее частей в периодике сразу вызвали противодействие оппонентов, не согласных с основным тезисом Ульянова: украинский сепаратизм опирается на ревизию российской истории.
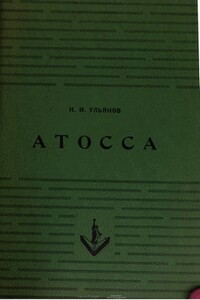
Исторический роман повествует о походе персидского царя Дария против скифов и осмысляет его как прототип всех последующих агрессий против России. Читатель проследит за сплетением судеб эллинского купца и путешественника Никодема, Атоссы, дочери Кира Великого, и царя скифов Иданфирса. Оригинал книги издан в устаревшей орфографии, обновление орфографии не производилось.
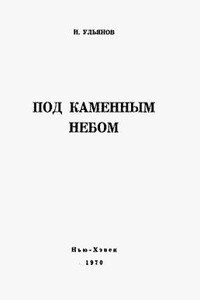
Сборник историко-фантастических рассказов видного русского историка Николая Ивановича Ульянова (1904–1985) — ученика С. Платонова и автора труда «Происхождение украинского сепаратизма».Ульянов попал в плен к немцам, бежал, но был опять перемещен в Германию, после войны оказался в лагере Ди-пи, избежал репатриации.Все свои основные работы Ульянов написал на западе; он жил в США, преподавал русскую историю в Йельском университете.
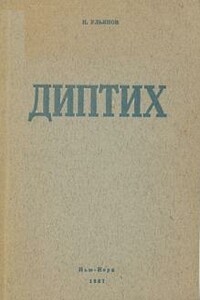
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
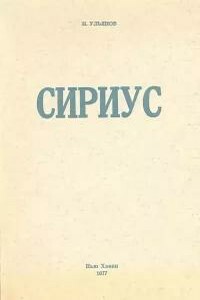
Исторический роман крупнейшего историка и публициста русского зарубежья о конце Российской монархии. Опубликован в журнале «Юность», № 3–4, 1995 г. Печатается в сокращении.
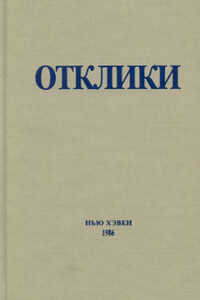
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.
