Скрипты - [19]
Кто писал такие стихи, какие писал Гумилев, того развенчать невозможно, и тот не нуждается ни в ретуши, ни в подмалевках. Жемчуг его поэзии сверкает не меньше от того, что, как всякий жемчуг, является порождением болезни раковины.
М. А. Кузмин, один из его соратников по акмеизму, определял задачу поэта так: — пусть каждый молится своему богу, но пусть это делает хорошо. Гумилев молился своему так, как, дай Бог, молиться каждому. И если божество его из таких, которых и в Пантеон пускать не принято, то своими стихами поэт вознес его выше всех других богов.
Не будем искажать смысл и образ его поэзии и подменять это божество нашими собственными кумирами. [58]
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ
Вкус к истории — самый аристократический из всех вкусов.
Э. Ренан
М. М. Карпович в своих «Комментариях»[3] предложил мне высказаться по вопросу о судьбе исторического романа в наши дни, в частности, ответить: «можно ли обнаружить наличие таких тенденций в современной культуре, которые делали бы вероятным восстановление исторического романа в прежнем его значении». Ответ на такой вопрос представляет немалую трудность. Мысль людей нашего времени занята не заменой одних видов литературы другими, не эволюцией или воскрешением стилей, а полным исчезновением всяких стилей и всякой литературы.
«Комментарии» М. М. Карповича отделены всего сотней страниц от «Выдержек из писем» Н. А. Бердяева, напечатанных в том же выпуске «Нового Журнала». А там есть строки, полные тревоги за судьбу искусства. Бердяев обеспокоен не «кризисом искусства», а возможностью полного его конца. Такие предчувствия тревожат с некоторых пор весь европейский артистический мир. Семнадцать лет тому назад, в Париже, вышла замечательная и, кажется, недостаточно еще оцененная книга В. В. Вейдле «Умирание искусства», ставящая диагноз и дающая клиническую картину болезни, приведшей к «умиранию» лучшего, может быть, растения европейской культуры. Погибнет ли оно в самом деле или зловещие пророчества останутся памятниками нашего душевного смятения — мы не знаем, но несомненно, на все рассуждения об искусстве ложится отныне надвигающаяся на него смертная сень.
То же в области исторического романа. Сейчас уже трудно гадать, способен ли он после векового господства [59] реализма, натурализма, бытового и психологического романа возродиться как явление первого плана. Слишком значительную и «серьезную» литературу породил XIX век и слишком заслонила эта литература прежние образцы исторического романа времен Вальтер Скотта. По справедливому замечанию М. М. Карповича, они попали в категорию «книг для юношества».
С каким презрением относился к историческому роману Чехов, например! Для него, как и для М. М. Карповича, самыми ценными страницами «Войны и Мира» были те, что посвящены «неисторическим» героям. «Не люблю тех мест, где Наполеон! Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Всё, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — всё это хорошо, умно, естественно и трогательно; всё же, что думает и делает Наполеон, — это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению».
Здесь говорит, конечно, не один только автор «Степи» и «Каштанки», создатель импрессионизма в русской литературе, но также человек, стоящий на вершине горы произведений «серьезной» литературы, накопленных девятнадцатым веком. Они как бы наглухо закрыли дверь для исторического рассказа. Правда, М. Цетлин лет тридцать тому назад полагал, что от Вальтер Скотта к Мережковскому исторический роман прошел длинный путь углубления и утончения, тем не менее трудно возражать М. М. Карповичу, когда он констатирует: «Признаков подлинного возрождения исторического романа пока еще не заметно».
Этим и исчерпывался бы весь вопрос. Но речь идет не о «возрождении» жанра, а о путях спасения литературы. Не то ли самое творчество XIX века, что отодвинуло исторический роман в глубокую тень, привело литературу на край гибели? Не на его ли «серьезность» и «зрелость» указывают как на причину катастрофы? Литература сделалась слишком умна, слишком утонченна и слишком совершенна по технике. Авторов стали ценить за ум, за философские откровения, за поставленные в их произведениях «проблемы». Писатели от науки, от философии, вроде Ницше, отодвинули постепенно [60] на второй план романистов. Книга В. В. Вейдле открывается как раз главой об ущербе вымысла — «самой неоспоримой, наглядной и едва ли не самой древней формы литературного творчества». Вымысел в наши дни — дело несерьезное, всё построенное на нем отходит постепенно к той же категории «книг для юношества». В русской литературе особенно не любят «вымышлять». Не любят и повествовать. В солидных наших романах редко что случается, отмирает самое чувство события. Роман перестает быть эпосом.
Но в высшей степени примечательно, что тот же В. В. Вейдле в конце книги с упованием обращает взор именно на детскую и юношескую книгу — на Андерсена, на Жюль Верна. Спасения ждут от «несерьезной» литературы. Пушкинское замечание о том, что искусство должно быть слегка глуповатым, начинает привлекать к себе внимание не на шутку. Мысль искусствоведов и художников занята с некоторых пор изысканием способа впасть в детство. Изобразительное искусство давно вступило на этот путь, обратившись к детскому рисунку, к примитивам дикарской живописи и скульптуры. Но именно опыт изобразительных искусств показал, что когда организм начинает выделять фермент старости, всякие усилия помолодеть и поглупеть становятся недостойными. Литературе, где смысловое начало занимает такое видное место, это особенно трудно сделать. Вряд ли Жюль Верн и Андерсен спасут ее.
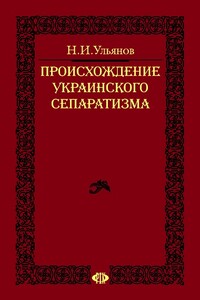
Николай Иванович Ульянов (1904—1985) — русский эмигрант, историк, профессор Йельского университета (США). Результат его 15-летнего труда, книга «Происхождение украинского сепаратизма» (1966) — аргументированное исследование метаполитической проблемы, уже не одно столетие будоражащей умы славянского мира по обе стороны баррикад. Работа, написанная в своеобразной эссеистической манере, демонстрирующая широчайшую эрудицию и живость ума, не имеющая себе равных в освещении избранного предмета исследования,— не смогла быть опубликована в США: опережающие публикации ее частей в периодике сразу вызвали противодействие оппонентов, не согласных с основным тезисом Ульянова: украинский сепаратизм опирается на ревизию российской истории.
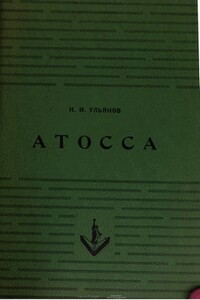
Исторический роман повествует о походе персидского царя Дария против скифов и осмысляет его как прототип всех последующих агрессий против России. Читатель проследит за сплетением судеб эллинского купца и путешественника Никодема, Атоссы, дочери Кира Великого, и царя скифов Иданфирса. Оригинал книги издан в устаревшей орфографии, обновление орфографии не производилось.
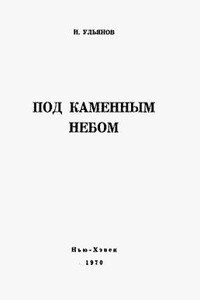
Сборник историко-фантастических рассказов видного русского историка Николая Ивановича Ульянова (1904–1985) — ученика С. Платонова и автора труда «Происхождение украинского сепаратизма».Ульянов попал в плен к немцам, бежал, но был опять перемещен в Германию, после войны оказался в лагере Ди-пи, избежал репатриации.Все свои основные работы Ульянов написал на западе; он жил в США, преподавал русскую историю в Йельском университете.
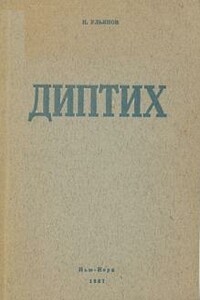
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
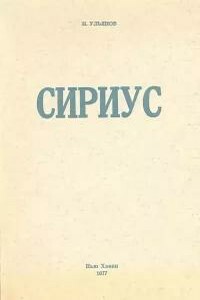
Исторический роман крупнейшего историка и публициста русского зарубежья о конце Российской монархии. Опубликован в журнале «Юность», № 3–4, 1995 г. Печатается в сокращении.
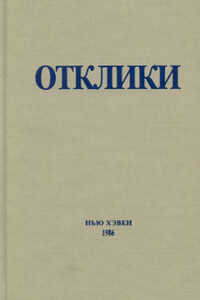
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.
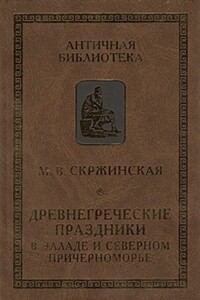
Книга представляет первый опыт комплексного изучения праздников в Элладе и в античных городах Северного Причерноморья в VI-I вв. до н. э. Работа построена на изучении литературных и эпиграфических источников, к ней широко привлечены памятники материальной культуры, в первую очередь произведения изобразительного искусства. Автор описывает основные праздники Ольвии, Херсонеса, Пантикапея и некоторых боспорских городов, выявляет генетическое сходство этих праздников со многими торжествами в Элладе, впервые обобщает разнообразные свидетельства об участии граждан из городов Северного Причерноморья в крупнейших праздниках Аполлона в Милете, Дельфах и на острове Делосе, а также в Панафинеях и Элевсинских мистериях.Книга снабжена большим количеством иллюстраций; она написана для историков, археологов, музейных работников, студентов и всех интересующихся античной историей и культурой.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.
