Сказы - [33]
Сразу запечалилась краля, припомнила, какая беда у нее в тот вечер стряслась. Сказала она об этом Илье, а Илья и без того помнит.
— Вина, — говорит, — и моя и не моя. Я бы без дозволенья и на минуту шаль не задержал. Один человечишка до вашей шали дотянулся. Дело прошлое, бес с ним.
И рассказал ей все. А напоследок так говорит:
— Я же ради узора, ради цвета, ради красоты вот этой не одну ночь над шалью просидел.
Певица говорит:
— Да разве кто в силах такую расцветку сделать? Шаль-то ведь самая редкая, заграничная. Мастер, который ее разрисовывал, может, на всю вселенную один.
Илья в усы ухмыляется, открывает коробку, в пояс кланяется с почтением да уважением, просит не обессудить за подарок.
— Ткачи, резчики, раклисты, — говорит, — велели в ноги поклониться, подарок прислали: две шали. Одна ваша, другая наша, выбирайте, которая краше…
И вот на правую руку Илья кинул шаль, на левую — другую.
Так и ахнула певица, ладошками всплеснула. Уж больно шали гожи. А котора шаль ее — не разберет. И на свет посмотрит, и в пальцах помнет, на плечи накинет, то к одной приноровится, то за другую возьмется.
Илья поглядывает да посмеивается: обе шали одинаковы, как два листка на березе.
Думала, думала певичка и выбрала. Сняла шаль у Ильи с левой руки.
— Она ли? Не обознались? — спрашивает мастер.
— Не обозналась, это моя память, — говорит певичка. А сама прижала шаль к груди и давай целовать, словно с живой, с ней разговаривает.
Илья спросил:
— Почему-де так решили?
А та в ответ:
— Моя шаль заграничная, вроде получше сделана, ее значит, и выбрала.
Тут Илья рассмеялся.
— Вот она, память ваша, на правой руке, и приметка есть, в семь нитей кисть вязана, а наша — в двенадцать. Не снимайте ее с плеч, носите на здоровьице.
Поклонился он еще раз в пояс, да и вон. А краля так и осталась посреди комнаты. Одна шаль у нее на плечах, кисти до полу, другую в руках держит. Была память о сердечном друге, а стала теперь еще память об ивановских мастерах — золотые руки.
Лазорь голубая
В наших местах исстари любили расцветки какие поярче да поласковей, и ремесло красочное с давних пор почиталось.
А мастера-красковары жили в те поры не как прочие, — под хозяйским глазом. За красковаром, особливо который снадобье какое-нибудь потайное знал, хозяин смотрел в оба, к себе поближе держал. И во всяком-то деле мастер мастеру рознь: один сляпает — хоть брось, другой сладит — чище быть нельзя. Вот таким-то и была отличка у фабрикантов. Сколько хошь было — сами хозяева друг у дружки хороших мастеров сманивали. Золото что не делает. Бывает, что один человек больше дюжины весит: пригож ситец или платок с лица, и в кармане густо у купца.
С такими, кто супротив хозяина становился, на другую фабрику уходил, где подороже платят, или запродавал тайком от хозяина секрет, расправлялись своим судом: убийство в то время случалось часто.
Расцветное ремесло из рода в род переходило. Промеж собой красковары в ладу жили, гостях друг у друга гащивали, сватьями да кумовьями становились, обо всем любили поговорить, а вот о красках помалкивали, боялись, как бы соседу секрета не проболтать.
Бывало так, что и в одной семье отец от сына, а сын от отца рецепт прятали, особливо если оба на разных фабриках работали.
В то время, о коем речь веду, варили краску попросту — в глиняном горшке или чугунке у себя в подполье. У каждого красковара, кроме фабричной лабораторки, была своя, домашняя. На фабричной он только готовую краску пробовал, на ситец сажал, чтобы показать хозяину, что получается, а дома-то мозговал, как бы новую краску сварить поярче, да чтобы не смывалась подольше, да не выгорала.
Этак же вот и жил у одного фабриканта Селиверста красковар Прохор. Изба его, сказывают, в Ильинской слободе стояла. Старик с виду немудрящий, подслеповатый, на голове лыко обручем, на фартуке краски цветут. Дыхни на него, кажется, от воздуха свалится, а сила в нем была могучая: устали не знал, ремесло любил больше всего на свете. Покоя не видел. Через то имя хорошее нажил. Ну, верно, в почете у хозяина Селиверста находился. И такие ли чудеса мог делать, что и в сказке об этом не говорится. Селиверст не раз за здравие Прохора свечу ставил, все хотел, чтобы подольше Прохор-то пожил, но Прохор все-таки стал сдавать, руки начали трястись, ослабел, но дела не бросал. «Мне, — говорит, — без дела день просидеть — все равно что в гробу пролежать».
После работы придет домой, поест редьки с квасом, засветит лампу, да и в свою лабораторку спустится: специи разные варит, новые цвета выгоняет. Жена его, старуха, другой раз скажет:
— Полно, Прохор, маяться-то. В могилу мастерство свое не возьмешь.
А Прохор ей:
— Кабы знал, что в могилу возьму, тогда бы и в подполье не лез.
Неугомонный был человек. Красочный колдун — ему на фабрике прозвище дали. Как только ни старались сманить его от Селиверста! А он, ровно гриб, прирос к своему месту — ничью красильню в сравнение со своей не ставил.
Умел он лазорь голубую варить, как никто. А ярь, или сандаловый цвет сделать — любой оттенок выгонит. Что-то свое подмешивал, и что — никому не ведомо: может, травы, корня какого, а может, еще что. Уж больно тепло цвет на товар ложился. За моря его образцы покупали. Там, видно, тоже головы-то поломали, что за такая лазорь голубая. Гадали-думали, ан и не раскусили.

Книга расскажет вам о глубинной природе Вселенной, в которую верили древние греки, египтяне и шумеры. Вам будет доходчиво изложено, как и почему эта природа однажды может быть обнаружена наукой. Также вы узнаете, по какой причине возможности Вселенной ничем не ограничены и чем конкретно обоснована её парадоксальность. И кроме этого, с помощью одной лишь логики и научных фактов будет дано обоснование, почему жизнь после смерти реальна и нереальна одновременно.

Данная книга познакомит читателя с самым знаменитым жанром исландского фольклора — рассказами о контактах живых людей с призраками (draugasögur), которые в этой северной стране поражают воображение своим количествам и разнообразием. Среди собранных в этом издании тестов читатель найдёт вариации знаменитых в мировой литературе сюжетов о мёртвом женихе, призрачных кораблях и чародеях священниках, а также совершенно уникальные свидетельства о личном опыте рассказчиков, оставляющие впечатление удивительной достоверности.
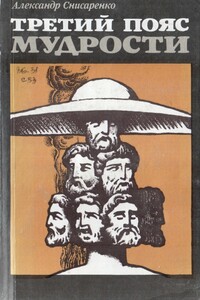
Книга ленинградского историка Александра Снисаренко посвящена происхождению славян, истокам и судьбам их древней культуры. Читатель откроет для себя неведомых ему языческих богов, познакомится с праздниками и легендами руссов.В книге рассказывается об интересном, но малоисследованном вопросе о месте славян в ряду других народов Европы, об их происхождении и мифологии, о времени возникновения тех или иных верований, их противоборстве и единстве с христианскими легендами.Автор убедительно опровергает измышления о некоем «особом пути развития славян», об их «варварстве», о «загадочной славянской душе».
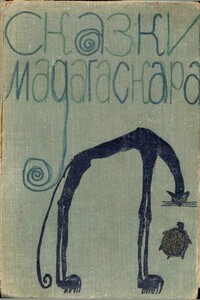
Сборник «Сказки Мадагаскара» продолжает серию «Сказки и мифы народов Востока», публикуемую Главной редакцией восточной литературы издательства «Наука». В сборнике представлены различные жанры сказочного творчества мальгашей, населяющих Мадагаскар, широко отражающие самобытную культуру этого народа.Книга рассчитана на взрослого читателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
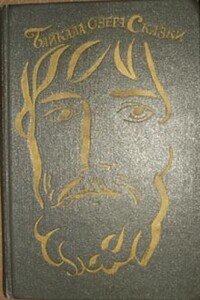
«Байкала-озера сказки» — двухтомное издание, оформленное известными советскими художниками братьями Трауготами.В каждой книге — три раздела.Во втором разделе первого тома, который называется «Вечные люди и живая вода», помещены героические сказки, прославляющие народных героев-богатырей.

