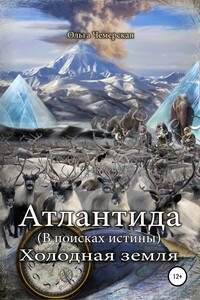Прях-искусниц немало на мануфактуре. Сто прях в ряд сидят, сто веретен в руках поют. Напряли они пряжи тонкой, звонкой сколь надобно, на тальки смотали, в пасмы перевязали, на грудки по шестьдесят нитей разбили. На белильном дворе в щадрике пряжу выварили, на вешала развешали, высушили на солнце. Из мотков на сновальные катушки да на цевки пряжу Балабилка с помощниками перемотал.
К шпульке-то сам сел, и не зря, братец, на то он и мастер, не доверил ребятам-несмышленышам перематывать, чтобы рядок навить поровнее. Все сам делал. Сам тальку на воробину наденет, сам и кончик нити на катушку замотает. Правой-то рукой колесо вращает, левой нить придерживает, чтобы не туго и не слабо шла. Потом мотки со сновального барабана с помощниками перевил на ткацкий навой. Ниточку к ниточке положил основы по всей ширине навоя. По сорок ниточек в рядок. Нитки-то все разноцветные: золотые, оранжевые, шелк и серебро. Шлихтовать принялись. Тут ой как искусно нужно щетинкой водить, чтобы основы не оборвать и чтобы ниточки не склеить! Сверху-то Балабилка щеточкой в шлихте ведет, снизу-то сухой щеткой пряжу приглаживает. Основы проклеиваются и не путаются. Без малого месяц впятером-то занимались. И то сказать: под скатерть затравить — надо голову иметь. Но самая-то трудность еще впереди. Такая страда, когда он за стан сядет, первый раз бердом пристукнет да скажет:
— Начали-почали, поповы дочери! Помни свой номер, чтобы цветок на скатерти не помер.
В переборном-то стане сам чорт не разберется, не догадается, за какую ниточку дернуть. Каждой нитке в основе номер дан, сто веревочек висит — вот за них переборщики свои номера и дергают по счету. Ткач старший за станом сидит, на узор смотрит да счет дает, когда какую ниточку поднять, какую опустить. Ниточки то вниз, то вверх, то вниз, то вверх; то золотая нить лазоревой дорогу уступит, то лазоревая перед золотой посторонится. Чуть зазевался или от усталости пропустил свой номер, не доглядел заглавный ткач, ну и скатерть бросай, — пустота останется в том месте.
— Ну, батан, ботать-ботай, да работать не мешай. Стоит нам не полениться, заставим арясов узор улыбнуться, другим боком повернуться, который нам люб.
Не торопясь, сел Балабилка за стан, разок другой батаном пристукнул. Батан послушно ходит, только почаще дергай на себя.
В левой-то руке у него узор на бумаге, бумага перед глазами — по ней и трафь. Правая-то рука на батане, чтобы поудобнее приколачивать уточину. Мартьян с челноком — сбоку, рядом с ним переборщики Беляй да Гусь Андрей, эти у номеров.
— По птице и перо, по царице и скатерть, так, что ли, чалдоны? Уж как в таком разе не порадеть? — лукаво метнул серым глазом Балабилка, хмурясь в бровцах, посерьезнел — по узору счет почал. Тут, брат, не до зевоты, только номерки поспевай дергать.
— Два, один, десять, пять, сорок, восемь, пятьдесят!
Беляй и Гусь за концы веревочек — дерг: золотые и лазоревые нитки — кверху, голубые да розовые — вниз. Мартьян челночок — раз, Балабилка батаном — стук да стук: станина — в дрожь. Разноцветные основы словно в плясе. Как по команде — всяк на свое место, куда приказано, туда и становятся. Все слажено, все угадано. Со стороны глянуть — не работа, музыка!
Балабилка с узора глаз не сводит, батан взад-вперед, взад-вперед, челнок, как окунек на волне.
— Пять, один, восемь…
Батан — тук, тук, тук.
— Три, четыре, десять, два…
Пальцы переборщиков, как у гусляров, — по основам в бег, в пляс. Не успел, кажись, Балабилка четнуть, а уж Гусь с Беляем — всяк за свою веревочку: и маленький узор, что на листе, теперь цветами на скатерти ложится. Лазоревые лепестки, бутончики, зеленые листочки узорчатые — всему свой цвет пряжа дала, без кисти, без красок.
Весной солнце не торопкое, долго оно на небесах. День-то с версту; ту версту мерял чорт да Тарас, а цепь-то у них оборвалась; Тарас говорит: давай свяжем, а чорт — на глаз скажем. Жди, когда солнце вкруг ткацкой светлицы полный круг обогнет. За четырнадцать часиков за станом все косточки замозжат. За весь день-деньской соткали, скажем, с пол-аршина. Узоры на скатерти зарницами, солнышком просияли. Балабилке усталость нипочем. В харчевне, не присев, похлебал щей купоросных и скорей за стан; сподручные тоже за ним.
— Давай, братцы, пока в руках-то зуд, пока дыр-то нет!
И те тоже в азарт вместе с Балабилкой, только счет подавай. Радость всем: дело-то наудачу! Без заминки, без задоринки, ни пролета, ни подплетины. Когда у мастера в сердце жар, тогда и работа навеселе. Балабилка держит узор перед собой, а в памяти у него старое да бывалое, житье его молодецкое, ночи темные осенние, ветры буйные, да костры среди чиста поля, да песни, кои на фабрике петь запрещают. Все-то припоминается, и уж вроде перед ним не то, что на бумажке написано да на стан к нему прислано, — перед глазами иной узор во всей явственности.
Однако у Балабилки ежечасно в памяти строгий наказ хозяйский: свернешь с узорчатой стежки — Камчатка тебе. Для начала же отблагодарят плетью на хозяйском дворе или в юстицколлегии.
Но так и тянет Балабилку свернуть со стежки узорчатой. Словно бес ему на ухо шепчет: