Символисты и другие - [45]
«Я Вам пишу, Людмила, как далекой, как женщине, быть может, иных столетий, быть может, вымыслу художника. Я не очень убежден, что Вы существуете. ‹…› Да, на той вазе, которую мы начали расписывать, были проведены только первые штрихи. Но она разбилась. Стоит ли ее склеивать, чтобы дорисовать намеченные рисунки?» (31 января 1903 г.);[333]
«Да, быть может, тот миг был как единственный дар. Но разве все дары принимаются? ‹…› Ах, с меня довольно одного. Я отдаю себя самого – себе. Я не хочу принадлежать никому, и спокойно могу не владеть никем. ‹…› Я Вам целую руку лишь в знак прощания» (между 20 и 23 февраля 1903 г.);[334]
«Я вспоминаю Вас часто, Людмила, но не знаю, как стал бы говорить с Вами при встрече. Быть может, нам было б не о чем говорить» (не позднее 15/28 августа 1903 г.);[335]
«… теперь наши голоса словно действительно звучат из телефонной трубки, измененные, искаженные: Вы не узнаёте моего, мне странен Ваш. Вы пытаетесь говорить со мной, как в той жизни, когда мы были – на краткий миг – рядом; я пытаюсь отвечать так же. Но Вы – уже не та, и я – иной. Поверьте этому до конца: иной! иной! просто другой человек, только с тем же именем, – как и Вы другая, хотя с теми же глазами, с той же притаившейся улыбкой, с тем же наклоном тихо-розовой шеи, который я почему-то запомнил полнее всего, – и навсегда» (25 января 1904 г.).[336]
Вилькина не желала примириться с охлаждением Брюсова и даже готова была простить явные знаки невнимания к ней с его стороны, но, думается, не столько от полноты и силы своего чувства к нему, сколько по двойному расчету. Связь с мэтром московских символистов, при отмеченной выше страсти к «коллекционированию» престижных поклонников, льстила ее самолюбию, а также могла – на что она явно надеялась – способствовать упрочению ее положения в писательской среде: Вилькина была глубоко уязвлена тем, что ее попытки заявить о себе на литературном поприще не приносят желаемых результатов, что в творчестве ей не удается и не суждено стать вровень со многими из ее конфидентов.
Начальную стадию своих отношений с Вилькиной Брюсов определил как «игру в любовь»; в значительной мере игровой, искусственный характер эти отношения сохранили и в ту пору, когда о любви можно было говорить только в прошедшем времени. В письмах к Вилькиной Брюсов выступает как бы в двух ипостасях – делится своими вполне искренними и доверительными суждениями на литературные и иные темы, выражает собственное мироощущение, обсуждает разнообразные частные вопросы и – откровенно лицедействует, «подыгрывает» корреспонденту, выступая в обличье экзальтированного и утонченного духовного гурмана, эстетизируя события собственной жизни, выстраивая велеречивые образные ряды, призванные передать тайные, невыразимые ритмы душевной жизни, – как, например, в июльском письме 1903 г., с признаниями об увлекших его математических штудиях: «…я дифференцирую и интегрирую, с последней страстью, непобедимо ‹…› я знаю, что здесь есть пути к таким высотам, к которым взойти иначе – нельзя: ни в любви, ни в преступлении. Эти вершины за пределами даже вечных льдов, потому что за пределами земли и ее атмосферы. ‹…› Небо то бледнеет от страсти и жжет неумолимо, то гаснет, мутнеет, словно Божий глаз, покрывшийся бельмом, в мире что-то совершается, убивают королей и умирают папы, мне пишут, зовут меня по имени, окликают, – но в моей жизни длящийся полдень, остановившееся время, я заворожен виденьями чисел, вечных! вечных!»[337]
После 1904 г. связь между Брюсовым и Вилькиной сохранялась лишь благодаря переписке, которая постепенно утрачивала прежнюю видимость интимности. Взаимоотношения их фактически сошли на нет после появления в журнале «Весы» (1907. № 1) отрицательного отзыва Брюсова о книге Вилькиной «Мой сад», выпущенной московским издательством «Гриф». «Статью о Вилькиной я писал “скрепя сердце”, – сообщал Брюсов К. И. Чуковскому 21 февраля 1907 г. – Но ведь должен же был кто-нибудь откровенно заявить, что она как поэт, – бездарность (и очень характерная, очень совершенная бездарность)».[338] Брюсов критиковал как эстетическую ущербность сонетов Вилькиной (отсутствие изобразительности, «скудные и общие определения» вместо эпитетов, «стих лишен музыкальности, а порой и прямо неблагозвучен»), так и во многом уже устаревшую, по его убеждению, художественную идеологию автора:
Содержание «Моего сада» исчерпывается кругом «декадентского» мировоззрения. «Я – целый мир», «Я – в пустыне», «Мне жизнь милей на миг, чем навсегда», «Я и обычное считаю чудом», «Люблю я не любовь, – люблю влюбленность» и т<ому> под<обное> – все это мысли, которые уже довольно давно перестали быть новыми даже у нас.[339]
Приговором Брюсова Вилькина была задета до глубины души; остроту ее реакции не могли сгладить ни опубликованные одновременно положительные рецензии на «Мой сад» Сергея Соловьева (Золотое Руно. 1907. № 1) и Андрея Белого (Перевал. 1907. № 3. Январь) – появление последней было инспирировано Минским,[340] – ни сочувственные увещевания мужа, постоянно побуждавшего ее поверить в силу и подлинность дарованного ей таланта.
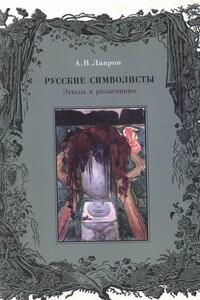
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
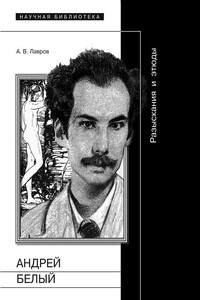
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.