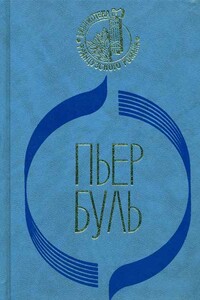Силоам - [41]
Но с наступлением вечера, когда все уходили, и он не ожидал более гостей, вдруг наставала минута, когда он задыхался от одиночества. Он мог бы пойти проведать какого-нибудь соседа. Но которого?.. Может, Лау? Или другого, о котором Массюб говорил ему так загадочно?.. Но тот по-прежнему был невидимкой; было только слышно, как он днем ходит мягкими шагами, или скребет по бумаге, или сколачивает ящики… Однако одним вечером Симон решился: он выбрал Лау; к другому идти было слишком боязно.
Он осторожно вышел из комнаты и подошел к двери соседа. Там он на мгновение остановился и прислушался. Кашель был слабее, чем обычно. Он подумал, что уже много дней не видел своего товарища. Что он ему скажет? В голову ничего не приходило. Но когда он прикоснулся к кнопке замка, то заметил квадратный листок, прикрепленный к двери кнопкой:
Запрещены посещения
без разрешения.
Ординатор д-р Кру.
Запрещены посещения без разрешения: в четырех шутливо звучащих словах, расположенных в две строчки друг над другом, как двустишие, таился какой-то зловещий подтекст. Это был словно приговор, подписанный рукой палача. Симон отступил… Ночью ему снилось, что он остался один на земле после катастрофы и что он живет в огромном пустынном здании, в котором с ним осталось только два человека: одного ему было запрещено навещать, а с другим не удавалось встретиться.
На следующее утро молодой человек обнаружил на своем столе новый температурный лист. Третий по счету, что предстояло заполнять. Уже!.. Значит, с момента его приезда прошло два месяца, а он и не заметил. Впрочем, ничего не произошло. Единственное, чего он ждал более-менее целенаправленно — приглашение к доктору — не последовало. Так что он все еще ждал… Он припоминал, что в Париже ему говорили о директоре Обрыва Арменаз как о превосходном враче, в чьи руки его передавали ничтоже сумняшеся. Но он не знал, что если, находясь в Париже, качества доктора Марша еще можно было расценить как «превосходные», то в Обрыве Арменаз все обстояло иначе, здесь этот эпитет оказывался крайне недостаточным, чтобы описать трудности, сразу же возникавшие при попытке приблизиться к врачу-директору. Одной из величайших способностей этого человека было делаться невидимым, и в его кабинет можно было попасть, лишь выполнив определенное количество ритуалов и пройдя через несколько церемоний посвящения, к которым относились последовательно проводимое взвешивание, бактериологические обследования, анализы крови и рентген. Здесь играла свою роль сестра Сен-Гилэр, и каждый шаг, совершаемый больными под ее руководством, был этапом на пути, восходящем от нее, смиренной слуги, чье бескорыстие облагораживало ее положение, к большому невидимому главе, незримому богу, чей домик у входа в усадьбу, на вершине дороги, показывали с неким уважительным страхом, — летний домик, почти скрытый рядом елей: только дымок, милый символ домашнего уюта, от которого каждый здесь должен был отказаться, поднимался между прямыми верхушками, преграждавшими путь лучам восходящего солнца…
Симон взял температурный лист в маленькой зеленой папке, начинавшей выгорать от солнца. Это был большой лист в клетку, напомнивший ему доску, на которой один из его бывших преподавателей в Сорбонне, Иснар, однажды анализировал перед учениками, в очень научной манере, при помощи кривой и цифр, различную полноту состояний чувств, испытанных Камиллом за время хорошо известного монолога. Все это стояло у Симона перед глазами: страница открытой перед ним книги, потом, на доске, — знаменитая кривая «напряжения», показывавшая, от нуля до бесконечности, все степени любви, ненависти, гнева и в конечном счете терявшаяся в нижней части графика, на дне садизма. Теперь Симон сомневался, что мог когда-то прожить час, настолько лишенный правдоподобия, час, исполненный такого мрачного комизма, как тот… Сестра Сен-Гилэр научила его совсем по-другому пользоваться точками пересечения горизонтали и вертикали, и четырежды в день молодой человек заставлял подниматься и спускаться по этой лесенке синюю кривую температуры и красную кривую пульса. Сестра, как никто другой, могла внушить самым строптивым вкус к этой небольшой работе, как и к множеству других. Если случайно кривая запаздывала на полдня, если не хватало последней отметки или если для обеих кривых использовались одинаковые чернила, она брюзжала, как школьная учительница. Ее замечания были облечены в неизменную форму, как, впрочем, и приносимые ей извинения. Уперев руки в боки с такой силой, что от ее фигурки, опоясанной медальонами и связками ключей, раздавался металлический звон, она выкрикивала высоким голосом, который словно поднимался на тон при каждом новом упреке: «Так-так, весь день ничего больше не делает и все-таки умудряется халтурить!..»
Ничего больше не делает!.. Симон с большим трудом сдерживал презрительный ответ. Но сестра, удаляясь, продолжала жалующимся тоном, которым обычно пользовалась для изложения своих мудрых наставлений: «Нечего роптать, господин Деламбр; что нужно, то нужно!»
Напрасно Симон возмущался: слова сестры Сен-Гилэр, проникая в него, наполнялись странным весом и превращались в некий знак унизительного, но неизбежного рока. Эти небольшие дела, которые он презирал, не были незначительными, нет! В однообразной жизни, которую здесь вели, они были даже единственными хорошо различимыми ориентирами, единственными памятными минутами. Это были ободряющие этапы, отмечавшие медленное, но верное продвижение к зачастую желанному концу дня; это были единственные моменты, когда мозг прекращал изматывающую работу над самим собой, чтобы задержаться на непререкаемом и приятно образном факте: подъеме ртути в стеклянной трубочке вдоль маленькой белой шкалы, пересеченной тонкими черными штришками с цифрами над ними, одна из которых торжественно выделялась красным цветом и словно держала стяг… Эта вещь странным образом жила в руке, она жила жизнью, заимствованной у человека, и взгляд настойчиво впивался в самые тоненькие из черных штришков, к которым подступал сверкающий столбик. Он, должно быть, был неравнодушен к тому или иному из штришков, так как почти всегда останавливался в одном и том же месте на шкале. С каким страхом Симон каждый день смотрел, как столбик вытягивается, словно червяк, и исподтишка укладывает голову на отметку с алым значком! С этим ничего нельзя было поделать, потуги воли были бессильны. Отмечая постоянство этого явления, которое, однако, происходило в силу хорошо известного физического закона и не могло вызывать никакого волнения, Симон каждый раз испытывал небольшой толчок в груди. Дело в том, что этот прибор, не являвшийся обычным измерительным прибором, был связан с его жизнью и должен был заявлять о ее ошибках. Он был деликатным и преданным, как совесть — больше, чем совесть!.. Симону иногда грезилось, что этому маленькому прибору действительно было поручено измерять его ошибки и указывать уровень его нравственной жизни. Даже выражения, которые использовали сестра и врач-стажер для оценки «отклонений», были заимствованы из нравственной сферы. Сестра брала температурный лист в маленькой зеленой папке и качала головой, говоря: «Девять десятых выше нормы… Вы еще не совсем паинька, господин Деламбр…» Или стажер, молодой доктор Кру, появлявшийся каждое утро с озабоченным видом, говорил, мягко глядя на Симона близорукими глазами: «Ну, мы сегодня себя хорошо ведем?..» Сначала Симону эта метафора не казалась остроумной, и при этих словах улыбка едва трогала его губы. Такая манера речи даже раздражала его. «Сестринский жаргон!» — говорил он себе. Но когда после полудня, с онемевшим от жары телом, он задремывал на кровати и сквозь закрытые веки, пронизываемые ослепительным дневным светом, видел череду танцующих пурпурных силуэтов, он действительно чувствовал, что над ним довлеет упрек, перед которым ему не удается оправдаться. Удручая его, эта мысль усиливалась другой: он расплачивается за давние ошибки, ему неведомые, совершенные, возможно, задолго до него. С этой точки зрения имело смысл сказать ему, что он не был «паинькой». Он чувствовал себя тайно виновным, и как бы он ни хотел быть паинькой, маленький стеклянный прибор продолжал безжалостно заявлять о его слабостях. Симон был уверен: этот прибор обличал не столько борьбу, происходившую в его теле, сколько борьбу в его душе, не столько рост температуры, сколько рост запретных образов, его неразумную любовь к жизни, его мучительные сожаления при виде лета. Ему казалось, что ртуть будет по-настоящему опускаться лишь тогда, когда он достигнет недостававшего ему смирения. Но желание, вульгарное желание выздороветь, быть здоровым человеком — «как все!» — слишком изводило его. И не только это желание — все желания одновременно обрушились на него, множась от роскоши послеполуденного дня сквозь его оцепенение. Все два часа, что продолжалась эта пытка, молодой человек ворочался на кровати, не в силах обрести покоя. Он хотел бы не видеть солнца, но зеркало, натертый паркет, блестящие стены, сияющий от света потолок отсылали к нему его лучи. Напрасно он опускал штору до самого пола — даже она не могла рассеять безудержный дневной жар и лишь наполняла комнату мутным, оранжевым светом, еще более благодатным для расцвета вредоносных мыслей. Если ему наконец удавалось заснуть на несколько минут, ему тут же снилось, что он тонет на дне впадины, и он с криком просыпался. Звонок возвещал о конце лечения, приносили дымящиеся горшочки с полдником, но Симон, изнуренный борьбой, едва мог сделать несколько шагов по комнате и тотчас снова падал на кровать в ожидании поздних сумерек…

«Женщина проснулась от грохота колес. Похоже, поезд на полной скорости влетел на цельнометаллический мост над оврагом с протекающей внизу речушкой, промахнул его и понесся дальше, с прежним ритмичным однообразием постукивая на стыках рельсов…» Так начинается этот роман Анатолия Курчаткина. Герои его мчатся в некоем поезде – и мчатся уже давно, дни проходят, годы проходят, а они все мчатся, и нет конца-краю их пути, и что за цель его? Они уже давно не помнят того, они привыкли к своей жизни в дороге, в тесноте купе, с его неуютом, неустройством, временностью, которая стала обыденностью.
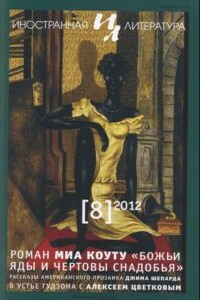
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Как может повлиять знакомство молодого офицера с душевнобольным Сергеевым на их жизни? В психиатрической лечебнице парень завершает историю, начатую его отцом еще в 80-е годы при СССР. Действтельно ли он болен? И что страшного может предрекать сумасшедший, сидящий в смирительной рубашке?

"И когда он увидел как следует её шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: - Душечка!" А.П.Чехов "Душечка".

Эта книга – история о любви как столкновения двух космосов. Розовый дельфин – биологическая редкость, но, тем не менее, встречающийся в реальности индивид. Дельфин-альбинос, увидеть которого, по поверью, означает скорую необыкновенную удачу. И, как при падении звезды, здесь тоже нужно загадывать желание, и оно несомненно должно исполниться.В основе сюжета безымянный мужчина и женщина по имени Алиса, которые в один прекрасный момент, 300 лет назад, оказались практически одни на целой планете (Земля), постепенно превращающейся в мертвый бетонный шарик.
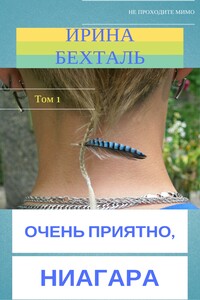
Эта книга – сборник рассказов, объединенных одним персонажем, от лица которого и ведется повествование. Ниагара – вдумчивая, ироничная, чувствительная, наблюдательная, находчивая и творческая интеллектуалка. С ней невозможно соскучиться. Яркие, неповторимые, осязаемые образы героев. Неожиданные и авантюрные повороты событий. Живой и колоритный стиль повествования. Сюжеты, написанные самой жизнью.

Французская писательница Луиза Левен де Вильморен (1902–1969) очень популярна у себя на родине. Ее произведения — романтические и увлекательные любовные истории, написанные в изящной и немного сентиментальной манере XIX века. Герои ее романов — трогательные, иногда смешные, покорные или бунтующие, но всегда — очаровательные. Они ищут, требуют, просят одного — идеальной любви, неудержимо стремятся на ее свет, но встреча с ней не всегда приносит счастье.На страницах своих произведений Луиза де Вильморен создает гармоничную картину реальной жизни, насыщая ее доброй иронией и тонким лиризмом.

Жорж Сименон (1903–1989) — известный французский писатель, автор знаменитых детективов о комиссаре Мегрэ, а также ряда социально-психологических романов, четыре из которых представлены в этой книге.О трагических судьбах людей в современном мире, об одиночестве, о любви, о драматических семейных отношениях повествует автор в романах «Три комнаты на Манхэттене», «Стриптиз», «Тюрьма», «Ноябрь».

Борис Виан (1920–1959) — французский романист, драматург, творчество которого, мало известное при жизни и иногда сложное для восприятия, стало очень популярно после 60-х годов XX столетия.В сборник избранных произведений Б. Виана включены замечательные романы: «Пена дней» — аллегорическая история любви и вписывающиеся в традиции философской сказки «Сердце дыбом» и «Осень в Пекине».