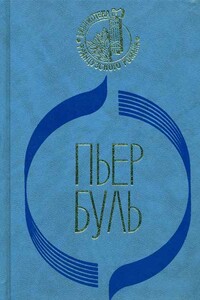Силоам - [170]
Надо было спешить. Пондорж с трудом вырвался из последних объятий и двинулся к машине, крыша которой доставала ему до пояса; но, уже собираясь в нее сесть, он обернулся напоследок к друзьям и с деланно веселым видом потряс руками над головой в знак прощания. Однако их веселость тоже угасла, и теперь они молча стояли вокруг машины. Наконец, Пондорж согнулся вдвое, чтобы занять место в машине, и, скрючившись, застыл на сиденье. Тогда машина тронулась, тихо-тихо… Было время увидеть, как она повернула, спустилась по дороге, проехала между еловыми стволами, прибавила газу и исчезла. Снег продолжал тихо падать с непредвиденным и несвоевременным упорством. Сквозь туман, наплывавший волнами и танцевавший перед обесцвеченным призраком солнца, еще какое-то время долетали слабеющие звуки шума неровно дышавшего мотора, затем все стихло. В несколько минут следы шин были засыпаны снегом, будто ничего и не было.
Снег шел еще вечером и всю ночь. Он падал маленькими снежинками, образовывавшими легкую пыль, вихрившуюся перед глазами и залетавшую даже в самые недоступные места. Он был мягким и рассыпчатым. Он устилал землю пушистым слоем и слегка побелил еловые лапы. Но ветер швырял его во все стороны, и он налипал на двери. Можно было подумать, будто небо медленно рассыпается в прах. Снег падал все плотнее, словно чтобы что-то укутать — воспоминание, тело, — словно советуя что-то забыть. Он падал, как те тихие слезы, что через некоторое время следуют за большой болью. Он падал без причины, падал без конца вслед за этим отъездом, становившимся с каждым часом все более окончательным.
Тогда даже те, кому до самого конца хотелось лишь веселиться, почувствовали, как на них обрушилась усталость. Раз Пондорж уезжал, они решили, что надо петь и производить много шума. А теперь их душило собственное молчание. Комнатой Пондоржа уже завладели уборщицы и сестры, свертывавшие одеяла и расставлявшие мебель перед той мрачной процедурой, что следовала за отъездами и называлась «дезинфекцией». Вскоре комната будет заперта, там заткнут последние щели, а в журнале Обрыва Арменаз будет вычеркнуто имя Пондоржа… Зима едва кончилась, а Обрыв Арменаз уже мучительно вибрировал под ударами отъездов, как при землетрясении… Стоя на пороге своей темной комнаты лицом к ночи, Симон простирал руки — и нельзя было понять, что это: движение человека, который от чего-то освобождается или, напротив, ищет опору.
Но может быть, правда была в другом… Может быть, жест Симона был жестом приветствия; может быть, он раскрывал объятия Пондоржу.
Пондорж так и сказал: от жизни не скрыться. И, будто эти слова открыли эру разрушения, за его отъездом последовали другие, и весна стала более деятельной. Напрасно эти обстоятельства повергали в растерянность умы тех, кто верил в вечность всего существующего в Обрыве Арменаз и кому было бы лучше никогда более не оказываться лицом к лицу с миром и покинуть этот край лишь для другого, гораздо более далекого, о котором он им тайно намекал; другие, напротив, чувствовали, как разрастается в них жажда жить и слиться всеми своими силами с бешеным ритмом человеческого бытия. Симон, охваченный пагубным нетерпением, теперь спешил призвать это бытие. Уже далеки были те дни, когда он мог целыми часами лежать пластом, не мучаясь от этого, с наслаждением впитывая все, что его окружало. Как парадоксальна болезнь! Чем деятельнее становился Симон, тем, казалось, больше сил возвращалось к нему. Доктор Марша теперь не выражал никакого беспокойства на его счет, к тому же и вызывал его довольно редко. Симон видел, как несколько его товарищей умерли от того, что возвращало его к жизни. Как у каждого своя смерть, так и у каждого своя болезнь.
Так, после стольких дней полнейшего покоя, он с удивлением чувствовал, как в нем возрождается пожирающий огонь, тот огонь, что перешел в вены земли и в это самое время согревал ненасытные сердца растений. Напрасно он считал, что взошел на некое высокое плато, где жизнь, наконец, стала самой собой, а покой — бесконечным. Симон видел, что в покое нельзя поселиться навечно, что он не уединенный край, не место отдыха, которое можно занять раз и навсегда. Нет, каждый день покой был поставлен на карту, и каждый день его приходилось снова завоевывать. Каждый день, как убирают комнату, убранную накануне, как стирают пыль, что снова осядет, как чинят то, что будет сломано завтра, — так следовало, проснувшись, повторять те же самые движения, чтобы защитить или отвоевать завоеванные или потерянные позиции. Все происходит так, будто жизнь — не нормальная среда для живущих; как пловцы в воде, они держатся на поверхности лишь благодаря беспрестанно повторяемым движениям, и каждая минута бездействия, забытья или сна представляет для них смертельную опасность. Симона пугало огромное усилие, требуемое, таким образом, от каждого человека. Он видел, что тот огонь, которым он тогда жил и, как ему казалось, смог утишить, только притворился затухающим; этот огонь был из тех, что не обходятся малой добычей и, однажды разгоревшись, не стихает, чье пламя рвется вверх, пожирая все на своем пути. Он снова запылал в Симоне, снова в безмолвии дней жалил человека, которого оказалось невозможно насытить. Значит, глупо было мечтать о чем-то ином, нежели это постоянно нарушаемое и восстанавливаемое равновесие, похожее на равновесие при ходьбе, которое и есть сама жизнь! Порой даже Ариадна, всегда такая бесстрашная, боялась этой таинственной силы, что родилась между ними и неудержимо росла. Случалось, что она опускала глаза под взглядом Симона, отступая перед острым наслаждением, которое должна была позволить ему себе доставить. Но вскоре она поднимала их под настойчивостью глаз, смотрящих на нее, и чувствовала тогда, как ее жизнь омывает восхитительная глубокая струя. Они подолгу смотрели так глаза в глаза, слившись в нематериальном, всепоглощающем поцелуе, трепеща на грани поступка, который не решались более совершить. И действительно, этот поступок все более казался им таким огромным, требующим от них такой отрешенности и чистоты, что они спрашивали себя, смогли бы они стать настолько чистыми, настолько отрешенными, чтобы решиться на это еще раз, смогли бы они придать этому достаточно искренности и благочестия. Отдавшись друг другу, они более не чувствовали себя вольными снова решиться на близость; какая-то высшая сила побуждала их к совершению поступка, по-прежнему казавшегося им прекрасным, но которым они теперь боялись не суметь управлять: наверное, именно в этом, а не в самом поступке, коренилась ошибка, зло, именно на этом этапе жизни, за этим пределом сила, повелевавшая ими, могла превратиться в силу помрачения.

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

Французская писательница Луиза Левен де Вильморен (1902–1969) очень популярна у себя на родине. Ее произведения — романтические и увлекательные любовные истории, написанные в изящной и немного сентиментальной манере XIX века. Герои ее романов — трогательные, иногда смешные, покорные или бунтующие, но всегда — очаровательные. Они ищут, требуют, просят одного — идеальной любви, неудержимо стремятся на ее свет, но встреча с ней не всегда приносит счастье.На страницах своих произведений Луиза де Вильморен создает гармоничную картину реальной жизни, насыщая ее доброй иронией и тонким лиризмом.

Жорж Сименон (1903–1989) — известный французский писатель, автор знаменитых детективов о комиссаре Мегрэ, а также ряда социально-психологических романов, четыре из которых представлены в этой книге.О трагических судьбах людей в современном мире, об одиночестве, о любви, о драматических семейных отношениях повествует автор в романах «Три комнаты на Манхэттене», «Стриптиз», «Тюрьма», «Ноябрь».

Борис Виан (1920–1959) — французский романист, драматург, творчество которого, мало известное при жизни и иногда сложное для восприятия, стало очень популярно после 60-х годов XX столетия.В сборник избранных произведений Б. Виана включены замечательные романы: «Пена дней» — аллегорическая история любви и вписывающиеся в традиции философской сказки «Сердце дыбом» и «Осень в Пекине».